Юрий Гавриленко: дезавтоматизация зрения
В статье собраны отдельные комментарии к фотографиям сайта photoline.ru, написанные Юрием Гавриленко (YG) и Эдуардом Чередником (Ed-Cher) с 2001 по 2014 годы. Для удобства чтения я отформатировал и сгруппировал получившийся текст в темы, стараясь держаться контекста и хронологии написания. Все подчеркивания в тексте – авторские.
Источник: комментарии YG (основной текст), комментарии Ed-Cher (вынесены отдельно).
Сайт Юрия Гавриленко: http://2×36.ru/
Содержание
1. Предварительные замечания
2. Взгляд // Все неровности скалы
3. Самовыражение // Торчащие уши автора
4. Фотошоп // Человек-соловей
5. Эмоции // Индульгенция бездарности
6. Интересность // Заворот кишок
7. Художественность // Моторность восприятия
8. Композиция // Метареализм
9. Законы восприятия // Псевдонаучные спекуляции
10. Искусство // Красиво или не красиво?
11. Образованность // Комплекс неполноценности
12. Оценки // Пережитки романтизма
13. Портрет // Трактовка портрета собаки
14. Красота // Развесистая клюква
15. Вкус // Публика – главный враг музыки
16. Гламур // Тяжелые гири шаблона
17. Погружение // Аромат идиотизма и бреда
18. Анализ // Самые тупые люди на свете
19. Смысл // Борьба с ложной подлинностью
20. Интенция // Перпендикулярность ожиданиям
21. Протест // Раскрашивание гробов
22. Литературщина // Фотографии для слепого
23. Театральность // Заигрывание со зрителем
24. Сюжет // Жизнь в сгустке времени
25. Сообщества // Радость банальностям
26. Советская фотография // Внешние смыслы
27. Тоталитаризм // Игра на чувствах
28. Случай // Хорошая встряска
29. Бытие // Тайна открытия и сокрытия
30. Семиотика // Пространство вазы
31. Наука // Подача и ответ
32. Философия // Заваренная железная дверь
33. Инструмент // Сопротивление материала
34. Цифра // Мясорубки для текста
35. Постмодернизм // Соль, потерявшая силу
36. Концептуализм // Кактус в наперстке
37. Фотохудожники // Научный подход
38. Художественный образ // Аналогизирующая материя
39. Язык // Когда рухнет старый мир
40. Задача // Борьба за фотографию
41. Отбор // Худшая черта авторов
42. Беспомощность // Замусоренность смыслами
43. Реальность // Нечеловеческое мычание
44. Приложения
Предварительные замечания
Запомните раз и навсегда: то, что я пишу на фотолайне адресовано моим ученикам и не предназначено для кухарок и их родственников.
Было бы большой ошибкой судить о моих взглядах на фотографию, основываясь на комментариях под карточками. И если я чаще пишу о композиции фотографий, чем о чем-то другом, то только потому, что именно композиция – редкий гость на лайне. Здесь широко представлено антикомпозиционное направление.
В фотографии все допустимо, но не все ценно. Я не считаю корректным делать вид, что все авторы равноценны. Что все фотографии хороши. У каждого фотографа есть свои достоинства, каждый нужен, – но все мы различны. О различиях же говорить необходимо, даже если это ущемляет гордость одних и тщеславие других.
Почему-то большинство людей не считают позорным признаваться, что не понимают классическую музыку и не разбираются в ней. Но все, видите ли, хорошо разбираются в картинках. Думаю, это не так.

Тот изобразительный язык, который я здесь защищаю, вовсе не является единственно возможным языком художественный фотографии. В конце концов, есть пикториализм, гламур, реклама и т. д. со своими подходами. Есть интересные фотографы с характерным индивидуальным языком, для которых язык связей почти чужд, например, Г.Пинхасов. Есть Салли Манн, Мартин Парр, Борис Михайлов и многие другие. Их искусство требует глубокого осмысления.

Язык связей, – вообще, «композиционный язык», – весьма распространен и его возможности далеко еще не исчерпаны. Зная его, зритель разберется и в Картье-Брессоне, и в Куделке, и в Д.Морийяме, и в Р.Франке, и в В.Луцкусе, и в В.Нистратове, и в Э.Гатауллине… Поэтому этот язык должен быть знаком каждому зрителю, ели он хочет быть зрителем фотографий, а не потребителем картинок.
Взгляд // Все неровности скалы
Анри Мишо так описывал свои ощущения после приема наркотика мескалина: «Рассматривая фотографии, я замечаю, что я гляжу на некоторые их зоны с очевидным предпочтением, гораздо более выраженным, чем обыкновенно. Я полагаю, у меня, как и у большинства людей, есть предпочтения, но на сей раз они совсем иные. Вместо того чтобы остановиться, например, на верблюде и голове погонщика, которые, я уверен, я бы рассматривал в первую очередь, я проскакиваю мимо них и долго созерцаю скалистую вершину сзади, а затем еще дальше неровные скалы Хоггара. Я наслаждаюсь, с восхитительной оптической ловкостью, если можно так выразиться, я рассматриваю все неровности скалы. Я следую за ними. Я вижу в глубину. Я обретаю здесь удовольствие sui generis, получаемое в горах и связанное с тем, что сам факт зрения там столь привлекателен из-за неровности столь приятно разнообразных для восприятия, для ощупывания взглядом скал; удовольствие, которое я никогда не получал от фотографии».
Умный взгляд, путешествуя по линиям композиции как по рельсам, «исполняет» фотографию, как движения пальцев флейтиста исполняют сонату, считанную с нотного стана.
Эдуард Чередник: Фотография – это лишь партитура, а не сама музыка. Как музыка или поэзия, фотография существует исключительно в момент ее «исполнения». В отличие от музыки, зритель сам является исполнителем фотографии, и в отличие от музыки, существует множество возможных вариантов исполнения фотографии зрителем.

Пока фотограф задает «детский» вопрос «как снять хорошую карточку», – ничего не будет получаться. Когда фотограф наконец поймет, что нужно спрашивать «как увидеть хорошую карточку», – возможен рост. Какие вопросы задает человек, характеризует его больше, чем то, как он отвечает на эти вопросы. Как фотограф ответит на второй вопрос – не столь важно. Возможны разные ответы, главное понять, о чем спрашивать следует, а о чем бессмысленно. Расстояние между первым и вторым вопросами, – может быть, годы жизни.
Умение видеть не менее ценно, чем умение снимать. А может быть, даже более ценно, потому что позволяет отобрать то, что само хочет проявиться, – а не то, что хочет запечатлеть фотограф. Технарей от фотографии полно, а художников мало.
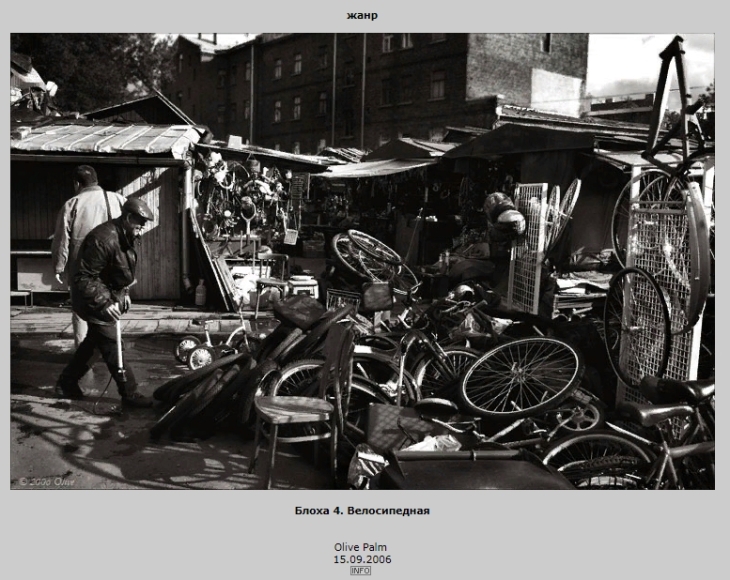
Талант фотографа заключается не в том, чтобы быть профессионалом, а в том, чтобы им не быть. Кстати, примерно о том же интересно сказал Г.Пинхасов на своем мастер-классе. Он фотографирует тогда, когда нет никакой надежды получить качественный снимок, т.е. тогда, когда профи не снимает.
Самовыражение // Торчащие уши автора
Мне лично чужд метод субъективизма, потому что в человеке нет ничего, что следовало бы вытаскивать наружу для всеобщего обозрения. Обычному человеку (не праведнику) нечем «светить», обычному фотографу лучше забыть себя и внимательно наблюдать мир. Если приглядеться к эстетическим опытам субъективистов, то понимаешь, что это, в сущности, люки в духовное подполье их авторов.
По моему убеждению, самое неудачное – видеть в искусстве метод сообщения того, что происходит в духовном мире художника. Духовный мир другого человека не может стать объектом нашего эстетического переживания потому, что эстетический объект – всегда часть нашего «я».

У фотографов-субъективистов всегда много поклонников и зрителей. Достаточно снять что-нибудь мутное, неясное по очертаниям и смыслу, придумать загадочное или эпатажное название, и толпы зрителей с восторгом увидят в фотографии что угодно, а точнее: каждый из них – своё. Для таких зрителей фотография – просто толчок к свободному фантазированию.
Это не искусство фотографии, это «автор». Такие фотографии интересны тому, кому автор интересен. Искусство начинается там, где автор о себе забывает. Вот, скажем, А.Сокуров – выдающийся кинорежиссер, снявший десятки фильмов. И только 2 или 3 из них представляют его личную точку зрения, как он сам признался. Все остальное – ему не близко в том смысле, что это не презентация его взгляда. Думаю, это правильный профессиональный подход к делу.
Когда западные исследователи всерьез взялись за японское искусство, им показалось совершенно диким положение, при котором художник, если виден его авторский стиль, его авторский почерк, считается еще желторотым новичком. И только тогда, когда совсем исчезает всякая самость, о нем можно говорить всерьез. В европейской культуре полярно противоположная ситуация: если у тебя нет своего стиля, то ты никто, либо подражатель, если учуяли, что ты на кого-то хоть чем-то похож.

Приведу слова одного знаменитого философа: «Сегодня мы услышим произведения Конрадина Крейцера – его песни и хоры, камерную и оперную музыку. В этих звуках присутствует сам композитор, так как по-настоящему мастер присутствует лишь в своей работе. И если это действительно большой мастер, то его личность полностью исчезнет за его работой». Думаю, философ прав. Если за работой «торчат уши» автора, светится его личность, привлекающая толпы сторонников и поклонниц, – это мастер тусовки. Тем более это верно в отношении фотографа. А если об авторе не задумываются, склоняя головы перед совершенством самого произведения, его самобытием, – это признак шедевра.
Читая книгу, рассматривая картину, фотографию или просматривая фильм, мы считаем, что дешифруем авторские намерения, изучаем авторское «сообщение». Многие думают, искусство – форма общения автора и зрителя (читателя). На самом же деле, реальность не такова. Зритель производит работу по пониманию изображения, естественно, детерминированную его структурами, опираясь при этом на весь свой жизненный опыт и культурный багаж: просмотренные картины, прочитанные книги и т.п. Это единственно возможная форма контакта зрителя с произведением. Мы часто не хотим замечать, что никакого места для «автора» здесь не остается.
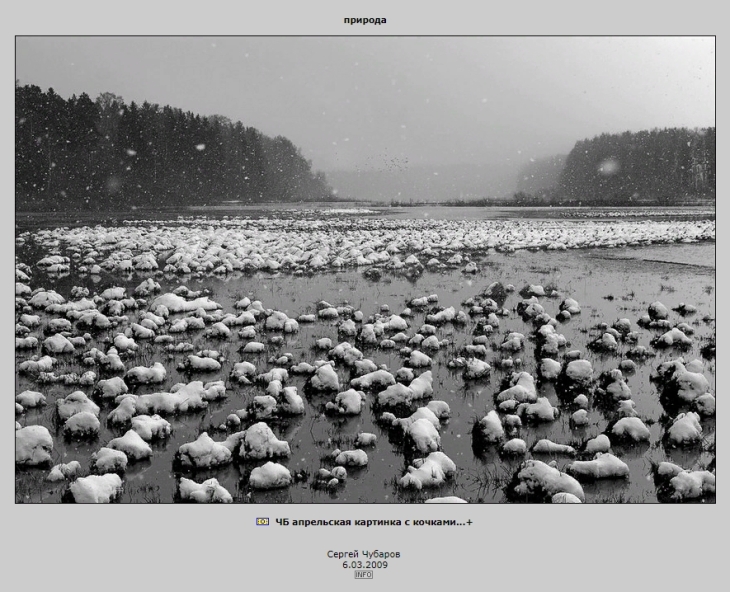
Произведение – это вещественный фрагмент (книга, рукопись…), текст же существует лишь в процессе чтения именно читателем. «Текст – поле методологических операций» (Барт). Так вот, произведение имеет автора, а текст – нет («В тексте нет записи об отцовстве»). И если можно говорить об «авторской позиции» или «авторском голосе» в романе, то это ну очень хитрая вещь (Бахтин книги об этом писал). Я считаю, что фотография в этом отношении ничем не отличается от литературы: имеется авторский кадр и неавторский снимок. Снимок существует только в акте перцепции со стороны зрителя, а что такое «авторский взгляд» (и бывает ли он вообще) предстоит еще уточнить.
Вообще, это тупиковый путь: пытаться передавать состояние фотографа, которое он испытывает во время съемки. Фотограф включен в происходящее, является его частью. Зритель же видит только фрагмент. Кроме того, искусство никаких чувств не «передает», хотя и вызывает чувства у зрителя. Всегда найдутся восторженные зрители, заявляющие, что, глядя на карточку, испытывают такие же чувства, что автор. Я бы поостерегся радоваться успеху у такой публики. Думаю, они просто ничего не понимают в фотографии, а легко возбуждаются от любой слащавости. Умный человек не будет отождествлять свои чувства с чувствами автора, которые тот испытывал 20 лет назад.
Распространенная теория, что дескать, фотограф каждый раз снимает себя любимого, только себя и видит во всем: «какие скучные дома!», «какой грустный туман!», «какая неуютная погода!». Тотальная проекция себя на мир. Фотографу хорошо бы хоть раз взглянуть на свою работу чужими глазами и спросить себя: «Кому это может быть интересно, нафига я это снял?»

Однажды Бодлер сказал своей матери: «помни, автор фотографии – не фотограф, а ты!». И это глубоко. Фотографию делает зритель. Фотограф только дает намек зрителю, что это можно понять, – пусть не сейчас, но когда-то в будущем.
Чтобы родился снимок, фотограф должен совершить некоторые ритуальные действия с камерой, пленкой, фотобумагой. Он не является автором снимка, и происхождение снимка всегда остается загадкой. Фотография – не то, что можно получить благодаря какой-то теории. Главный вопрос философии фотографии: «что зовёт фотографировать?», т.е. что заставляет нажимать на спуск именно в тот единственный момент? – остается открытым.
«Автор берет в качестве исходного материала фрагмент бытия и преобразует его, вылепливает из него нечто, повинуясь лишь своей собственной фантазии. Не так ли рождаются произведения искусства?» ― нет, не нак. Реализация собственной фантазии – удел любителя, пытающегося эксплицировать свое «Я» в творчестве. Настоящее искусство – ответ художника на вызов бытия. А настоящая фотография – чистый вызов бытия.
«Фотографировать жизнь – задача репортажная; придумывать жизнь – Божье дарование художнику.» ― очень миленькое заявление, но сомнительное. Придумывать жизнь – откровенное богохульство. Вспомните, что герой фильма Таковского «Жертвоприношение» говорит о «придуманной жизни» в виде песочного городка, построенного к его дню рождения. Тарковский понимал, что задача художника – не придумывать жизнь. А фотография вообще не художественная деятельность.
Фотошоп // Человек-соловей
«Шоп – всего лишь инструмент фотографического языка». Шоп – инструмент языка живописца, художника, а инструмент фотографа – его умение видеть слово в реальности, не им созданной.

Я знал, что мне напомнят о «Горе» Бальтерманца. Что я могу сказать? Видел и всем известный окончательный отпечаток и оригинал. Оригинал – это фотография, опубликованная версия – нефотография, агитка, насквозь идеологизированная работа. Хотя это и не имеет прямого отношения к разговору, скажу, что оригинал произвел на меня большее впечатление. Пустое серое небо безучастно к людскому горю, это трагичнее. Но Бальтерманцу (или редактору газеты) хотелось, что бы небо дышало гневом, призывало к отмщению за убитых… вот и решили «вшопить» грозовые облака, которые как мне кажется, просто не бывают в то время года. Получилось «высказывание», но не фотография. Нравится это или не нравится, принимать эту работу или нет, – совершенно другая тема.
Сфотографировать в действительности удачный жанровый снимок неизмеримо сложнее, чем слепить из «фотомусора» что-то мертворожденное в ФШ. Нужно уметь видеть, быстро реагировать, мгновенно выстраивать композицию, быстро бегать. В конце концов, нужен талант фотографа. А для ФШ нужно умение, приобретаемое пятой точкой, фиксированной в мягком кресле, может быть – талант художника. И не говорите мне, что ФШ – великое творчество: все ваши фотошопные коллажи подобны друг другу, как капли воды. Одного автора, работающего в этой технике почти невозможно отличить от другого.

В фотошопных обработках есть какая-то фабричность, нивелирующая индивидуальность авторов. Вроде бы, в ФШ масса инструментов, широта возможностей, а результат ничего не имеет от «руки» автора. Прав Ю.Норштейн, утверждающий, что в сопротивлении материала природа искусства. Картинка в ФШ ничему не сопротивляется.
Настоящая аутентичная фотография отражает сложность жизни. А жизнь прекрасно именно своей сложностью и неожиданностью. Поэтому подлинная фотография всегда трудна и содержит много немотивированных элементов, затрудняющих зрителю синтез видимого в художественное единство. Часто бывает трудно нащупать центр этого единства, потому что Жизнь превосходит человеческое понимание. Человек учится у Жизни. Напротив, фотошопные поделки по свой сути проще жизни и точно соответствуют уровню фантазирования их автора. Тут получается, что «жизнь» поучается автором, какой ей быть. Собственно, я не против ФШ. Мне неприятно, что эти рисованные поделки выставляются в раздел «Природа». Это – неприрода.

Зритель должен правильно настроить визуальное восприятие. Собственно, что он воспринимает, – репрезентацию когда-то имевшей место реальности или презентацию реальности воображаемой? Здесь главная проблема. Если ты слушаешь виртуозные трели соловья, – это тебе может быть интересно, ты восхищаешься «музыкальности птицы», – а если узнаешь, что на самом деле эти трели исполнял человек «за сценой», – тебе станет скучно. Человек и не такое может. Подумаешь, «Человек-соловей» – что тут удивительного? Развлечение для сельского клуба. Фотография – способ познания мира, а не инструмент реализации идей художника.
Эмоции // Индульгенция бездарности
Есть такое явление: попса. Применительно к фотографии, – это работы, рассчитанные на чувственное субъективное восприятие зрителя, художественный вкус которого не развит (см., например, данное фото). Как правило, воспринимается и оценивается только сюжет картинки. То есть, зритель получает удовольствие точно такое же, какое он получил, если бы находился внутри изображенной реальности. Это – внехудожественное восприятие. Обсуждение под карточкой заключается в оценке гламурности ножек и ручек модели, кастрюлек на полке, геройского взгляда рыбака и т.п.
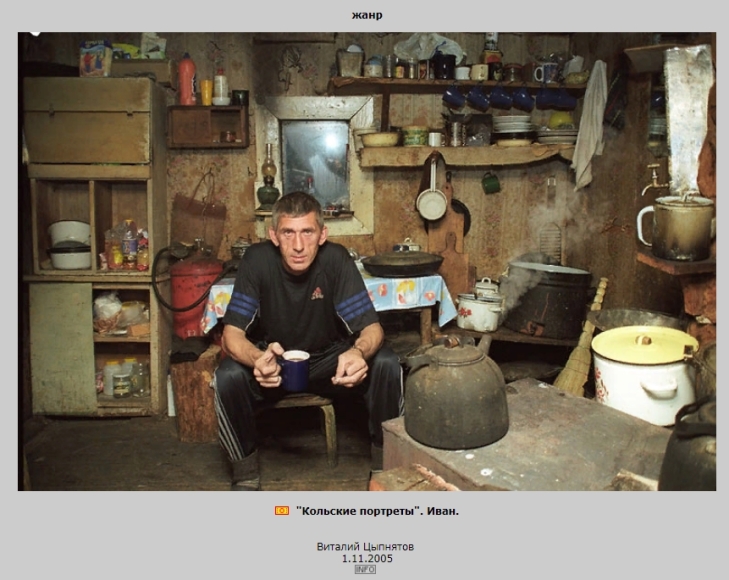
Конечно, есть потребители (причем, немало) и таких картинок, но с точки зрения фотографии – так скучно и банально снимать эмоции. Хотя бы потому, что таких карточек, как у Д.Долинина сотни миллионов, и все они похожи друг на друга как капли воды. И у Милицкого есть арбатский человек с гитарой, и у… кого угодно. Конечно, на всех карточках разные люди, меняется обстановка, различные эмоции… Только кому это интересно? Этнография какая-то и только. Снимать лица в толпе проще простого. Помню Левитт выставлял длиннющую серию так сказать «портретов» в толпе. Хочется спросить: при чем тут фотография? Уж лучше камеру поставить на штатив и гнать километры пленки, – потом можно выдрать кучу «эмоциональных» кадриков.

«Мне так нравится, я так чувствую», «главное – чувства, которые вызывает фотография», – постоянно пишут зрители под карточками. «Что такое чувство? Это просто. Чувство у всех есть. Тут важно не само чувство, важно, чтобы оно воплощалось в форму» (В.А. Фаворский, совет художнику). Выдающийся график прав: чувства персонажей картины (фотографии) уместно обсуждать, только если они воплощены в форму. Обсуждать нужно форму, и только форму. Чувства зрителя только те «культурны», которые обоснованы строем изображения.
Надоело это «от души»: как бы индульгенция бездарности. Любая чушь (фотографическая, литературная) преподносится «от души». И все довольны. Ну, как же! – это же от души!
Собачку заочно легко жалеть: собачка на картинке не требует, чтобы ей дали приют, накормили, сделали прививки, вывели глистов… Она не требует внимания, времени, не требует, чтобы ее выводили погулять. И сидя перед монитором со ртом, набитым попкорном, можно помечтать, как отомстить обидчикам собаки. Очень приятно чувствовать себя защитником животных, реально ничего не делая: ведь достаточно просто поплакать о страданиях пса, осудить злых людей. Ах, как приятно, когда кровь вскипает от праведного гнева на негодяев!

Очень часто симуляцию чувств принимают за их выражение. Например, на фото показывают улыбающегося ребенка или бабушку с курочкой рябой – зрители говорят: добрая, душевно, улыбаются. Это симуляция чувств,– зрителя ведут, им управляют, манипулируют. Если фотография выражает чувства, то это вовсе не аффекты зрителя, это что-то абстрактное, что чувствовать нужно учиться.

Сергей Кедров: У меня, как пелена с глаз упала. На этой фотографии – отец и сын, какие выразительные лица. Вся история разворачивается перед мысленным взором. Отец ― военный, защитник Родины, может быть офицер. Едет в дальний гарнизон преодолевать трудности воинской службы. Его любовь к сыну – такой выразительный жест ― многое говорит о внутреннем мире настоящего мужчины. Жаль рядом с ними нет матери. Где она? Может быть в купе, едет с ними. А может … Обратите внимание на грустный взгляд отца. По настоящему исполненный драматизма снимок.
И что же в фотографии по ссылке? Казалось бы то же военный и мальчик. Но насколько велика разница. На снимке нет даже лиц. А ведь еще когда было сказано ― Vultus est index amini . Но нет, душа не интересует автора. Про что же та фотография? Про шапки – говорит автор. Мелкотемье ― характерная черта, авторский почерк. А можно было попросить солдата взять мальчика на руки, как в Трептове. Наполнить кадр смыслом. Но нет автор напротив усугубил бессмысленность искажением действительности, т.е. глумлением над святынями. «Чему ж тут нравится? Одно похабство.»
«В идеале эмоции должны работать…» ― В идеале эмоции вообще не должны работать. Они, конечно, есть, но засунуты подальше от посторонних глаз. Воспитанный человек не акцентирует свои эмоции и не руководствуется ими в жизни и творчестве.
«С непонятным мне упрямством, противопоставляется эмоциональное воздействие фотографии и структуры изображения. Нмв, первое – цель искусства, второе – средство ее достижения» ― Простоватая философия, – но все равно, – Вы и сами противопоставили их друг другу. Потому что, если для достижения цели есть известные средства, то это не искусство, а ремесло. Сапожник знает, как пришить подметку, а поэт не знает «куда ж нам плыть» – он слушает Музу.
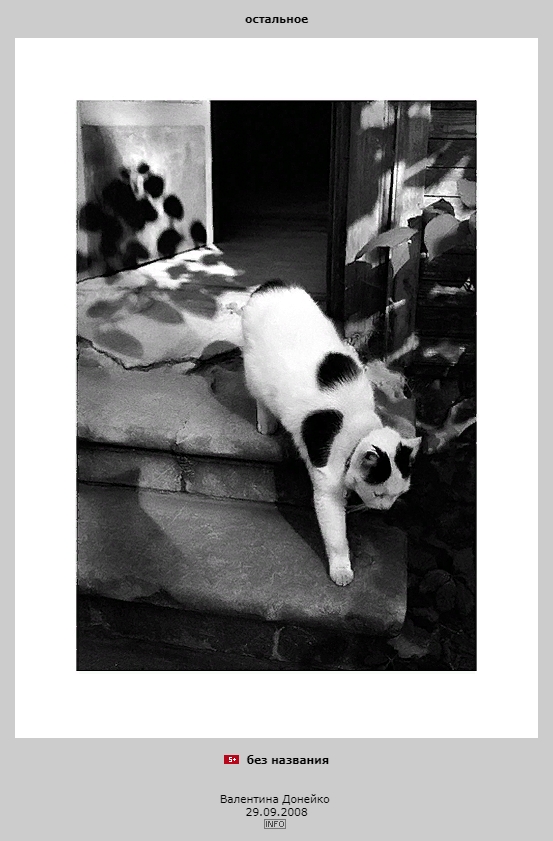
Прочтите любую выдающуюся книгу по искусству, например, Мишеля Фуко «Живопись Мане», которая недавно появилась по-русски и продается в любом газетном киоске. Обратите внимание на то, что собственно обсуждает Фуко. Вы будете удивлены: это структура изображения, а вовсе не «чуйства» выдающегося философа.
Для тех, кто ждет «в двух словах», – зачем семиотика нужна для анализа фотографий, – скажу: Семиотик анализирует фотографии с позиции культуры, а простой зритель с улицы, – оценивает от личного субъективного вкуса. Поэтому, читая сейчас довольно сложный разбор одного семиолога фотографии Картье-Брессона «Арена в Валенсии» я с ним согласен. Почему такое возможно? Потому что и он, и я, изучаем фотографию с позиции принятых во времена Картье-Брессона норм, а не по принципу «это нам нравится (не нравится)». Вот и всё.

Эдуард Чередник: Рассматривание фотографий (или ловля эмоций), скажем, АКБ, Куделки, Дуано без привлечения семиотики – вредное, бесполезное и скучное занятие. Смешно читать, когда пытаются описывать свои недетские ощущения от просмотра таких классических работ. Эта по сути своей эквивалентно рассуждениям о лучшем материале для компьютера – дуб или осина. Дуб прочнее, но осину легче обрабатывать.
Эмоции и ассоциации культурно обусловлены, а изобразительный язык фотографии как раз международен: для меня одинаково понятны Александр Родченко, Дайдо Морийама, Йозеф Куделка, Трент Парк, Эмиль Гатауллин, Вилли Ронис и Роберт Франк, – хотя эти авторы принадлежат различным культурам и разным историческим эпохам.
В фотографии множество направлений, преследующих совершенно различные художественные цели. Привести их к общему знаменателю – «чувственности» никому не приходит в голову. Вся эта повышенная «эмоциональность» – апофеоз фотолюбительства, поэтому любые возражения против неё, как будто бы единственно возможной цели искусства фотографии, встречаются в штыки.
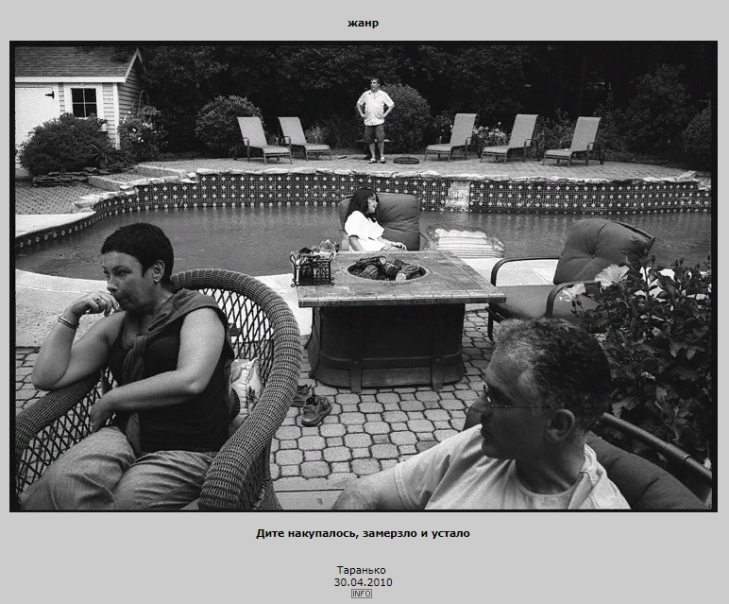
Я объясню почему: если отвлечься от эмоций, рождающихся у зрителя после просмотра фотографий на лайне, то, собственно, говорить как правило не о чем: визуальность как основа фотографии отсутствует. А источником эмоций является не мастерство фотографа, а сама отображенная действительность. То есть, эмоциональная реакция зрителя на карточки – это простая бытовая реакция на сценки, привлекательные в том или ином смысле. Эмоции не свидетельствуют о художественном восприятии фотографий.
Художник с первых же шагов сталкивается с вопросом «как передать…, как изобразить…», а фотограф до конца своих дней может пребывать в наивном убеждении, что реальность сама все передает. Что достаточно запечатлеть сценку, вызвавшую определенные эмоции, чтобы зритель, посмотрев на снимок, испытал такие же эмоции. Это наивно, почти глупо, давно опровергнуто психологией восприятия, но бесконечно популярно в маргинальной фотографической среде.
Для квалифицированного суждения о фотографии совершенно не имеет значения, какие были восторги и где. Эмоции вообще подозрительны, ибо могут свидетельствовать о внутренней пустоте зрителей. Эмоция – искра между двумя потенциалами: один находится внутри зрителя, другой – снаружи. Когда внутри пусто, эмоции бьют в эту пустоту как молнии в громоотвод.

Давайте отвлечемся от «художественности» и посмотрим на фотографии с профессиональной «ремесленной» точки зрения. Все говорят: душевная фотография, душевная карточка… Душевная – затрагивающая эмоциональную сферу зрителя. Затрагивающая в первую очередь своим сюжетом, а не структурой изображения, которую средний зритель вообще не замечает. Снимать эмоциональные фотографии не слишком сложно. Достаточно:
1) реагировать на происходящее вокруг фотографа так, как реагируют все члены социума, т.е. нужно быть средним человеком. Не выдающимся, не особенным, лучше – заурядным.
2) уметь элементарно скомпоновать кадр, чтобы он не раздражал зрителя.
3) показывать фотографию только членам того социума, которому принадлежит сам фотограф.
На последнюю проблему натыкались некоторые популярные в России фотографы, выставлявшиеся за рубежом: там их не оценили. Визуально карточки были неинтересны, а «за душу не брали», т.к. зритель принадлежал другой среде. Вот и все.
Эмоциональных карточек миллионы. А чтобы найти в хаосе жизни неожиданную структуру, проявляющуюся только в плоскости кадра, от фотографа требуются незаурядные способности, отличные от скорости бытовых реакций.

Главное, что я хотел бы сказать: эмоциональность не есть ни ноэма фотографии вообще, ни исключительная характеристическая черта искусства. Фотография — это не предметы в рождественском носке — для «радости». Фотография — это отношение предметов друг ко другу.
Я понимаю, когда фотограф или художник ставит неэмоциональные задачи. Например, Джефф Уолл ставил перед собой задачу возродить принципы исторической живописи 19 века в рамках фотографического изображения. Или Френсис Бэкон придумал Диаграмму как средство избавить живопись от клише и фигуративности. Это осмысленные постановки целей искусства, а «эмоциональность» — это не вектор искусства. Это частная дурость субъекта. Понятно, что все вызывает эмоции, так устроен человек. Но это не повод превращать эмоцию в идола.

Важна не эмоция, сопровождающая восприятие картины или фотографии, а смена эмоции зрителя. Так сказать перемена аспекта. Потому что, смена аспекта — это форма течения времени (в произведении). Эмоция нужна только как бытийствование времени и не представляет ценности сама по себе. Эмоций и в жизни полно, зачем искать эмоции в искусстве? А вот время… это, да!
Интересность // Заворот кишок
Все-таки, давайте будем отличать «интересную фотографию» от «интересного сюжета». Сколько бы ни был любопытен вид парикмахерской, это не делает фотографию содержательной в изобразительном плане. Поблагодарим парикмахера за чудесную обстановку.

Фотография – не абстрактное искусство, «чего» всегда присутствует: это есть запечатленная реальность. Вести отвлеченные разговоры о фотографии легко, поэтому предлагаю вернуться к этой конкретной фотоработе. «Чего» здесь – это парикмахер в своей мастерской среди аккуратно расставленных предметов, картин не стенах, зеркал и плиток пола. Все это немножко любопытно как этнография. Спасибо парикмахеру, спасибо и фотографу за кадр. А вот «как» снято, т.е. интенции фотографа, стремящегося проникнуть в отношения вещей и отношения человека к окружающим его вещам, я не вижу. Фотография использовалась как технический инструмент, позволяющий передать вид парикмахерской далекому зрителю. Получился кадр, не имеющий отношения к искусству фотографии. Потому, что «плохо, когда искусство становится средством изображения, а не выражения» (В.А.Фаворский).
«Рассуждения же о том, что испытывает в душе этот парикмахер, кажутся мне неуместными» ― Совершенно верно. Такие рассуждения не только неуместны, но и свидетельствуют о внехудожественных формах восприятия фотографии. Для таких зрителей, фотография является «спусковым крючком», нажатие на который запускает поток переживаний и мыслей, связанных с изображенным только общностью мотивов. На самом деле, такой зритель не понимает языка изобразительного искусства, не видит фотографию как плоское изображение, – а видит запечатленную на снимке реальность и пошло фантазирует, основываясь на чисто житейском индивидуальном опыте.
«А как должна была бы выглядеть эта работа в Вашем понимании? Что ей не хватает,что бы работа состоялась?» ― Не хватает хотя бы одного из трех: четкой геометрии линий, художественной метафоры или пунктума. Для хорошей фотографии достаточно одного.
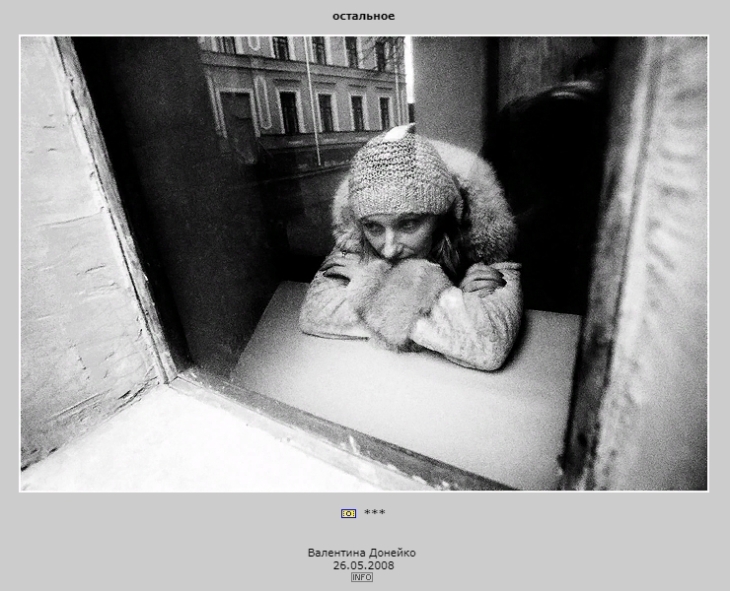
Для меня «интерес» представляет то, что относится к способу выражения (дискурсу), а не к денонату самого высказывания (мотивам и сюжету фотографии). Это если объясняться языком популярной семиотики.
Лайн не дорос до таких графически тонких и изобразительно виртуозных работ большого мастера, коим является Картье-Брессон. Показать эту фотографию Картье-Брессона среднелайновскому маргиналу, вскормленному молоком туманов и киселем нарумяненных закатов, – все равно, что оторвать грудного ребёнка от груди матери и попотчевать лагманом по-угурийски. Заворот кишок обеспечен, бесполезная и мучительная смерть гениального лайновца неизбежна. Лайну лучше не смотреть зрелого Брессона.
Художественность // Моторность восприятия
Любитель, как известно, снимает «на память». Как правило, это занятие не является ни его «самовыражением», ни другим проявлением художественных задатков. Снимает, как попало, снимает, что ему в тот момент интересно, снимает, — не помышляя о композиции, значении сюжета, качестве снимка. Человеку нужны просто «отпечатки пальцев» времени, вещественные свидетельства уходящих мгновений.
Но фотография создается не из предметов, а из цветных пятен и линий. Только мозг зрителя объединяет пятна в группы, а в линиях узнает очертания знакомых предметов. У взрослого человека этот процесс происходит автоматически и практически мгновенно. Этим узнаванием «обыденного мира» перцепция снимка может ограничиться: вот пожилая женщина, вот собака, вот улочка, кошка. «Какая скучная карточка, я сам таких сколько угодно наснимаю!», — скажет иной фотограф.

Хороший снимок нужно долго рассматривать, – только тогда он раскроет свои секреты зрителю. Предметы на фотографии могут вступать в самые удивительные отношения, причем, эти связи можно заметить только на снимке, — в постоянно текущей действительности человеческий взгляд не замечает такие эфемерные отношения.
В сущности, на снимке зритель видит реальный мир, обычные бытовые предметы, которые за счет структуры изображения оказываются сближенными или, наоборот, разделенными. При этом их привычные бытовые связи разорваны, а новые связи фундированы композицией. Над моторностью восприятия мира вещей (один предмет тянет за собой другой) думали «Чинари»: Липавский, Хармс. Вот, например – «О подарках. О правильном окружении себя предметами».
Я считаю, что искусство фотографии ближе к поэзии, чем к живописи. Во-первых, фотографию и поэзию сближает неподатливость материала: слова есть такие, какие они есть в языке, предметы на снимке таковы, каковы они в реальности. Уйти от этого очень трудно. Во-вторых, художественный инструмент поэзии и фотографии — один и тот же. И состоит он в использовании тропов: обычный смысл слов или обыденный взгляд на вещи модифицируется сопоставлением и расстановкой акцентов. Происходит семантический сдвиг, обогащение смысла, «расширение» действительности.
Святая наивность, думать, что такое культурно-историческое явление, как «художественная фотография» достаточно определить, – и все станет на свои места на твердой основе. Как известно, договориться о терминах в такой области как искусство не удастся. Вы хотите определить художественность? – Это невозможно, хотя бы потому, что в историческом развитии искусства сфера художественного постоянно расширялась. Эта фотография «художественна» по чисто формальному признаку: применяется механизм тропов. Предметы разной природы (живое и неживое) поставлены в позицию сравнения посредством композиции. В результате, троп здесь конструирует такое содержание, которое визуально никак иначе не проявляется:
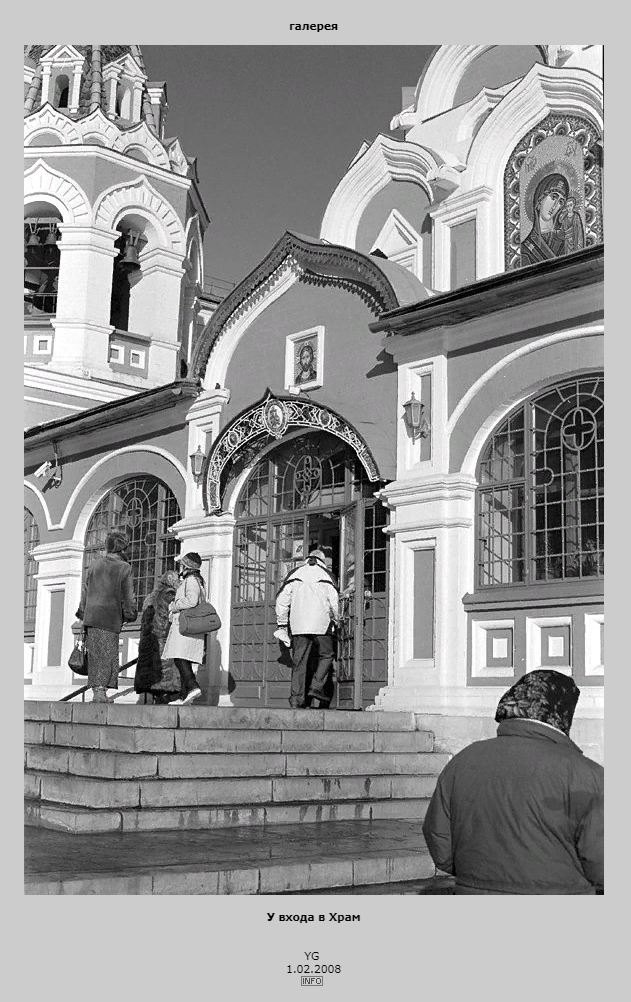
Главный инструмент, создающий художественное – это троп (скажем, метафора или метонимия). Ю.Лотман в одной своей работе справедливо отметил, что троп всегда рождается из соположения принципиально несоположимых сегментов (речь там шла о текстах, но это не суть важно). Таким образом, троп – «не является украшением, принадлежащим лишь сфере выражения, орнаментализацией некоего инвариантного содержания, а является механизмом порождения нового, в пределах одного языка не конструируемого содержания. Троп – фигура, рождающаяся на стыке двух языков, и в этом отношении он изоструктурен механизму творческого сознания как такового» (Лотман, подчеркивания мои). Вот поэтому и нужен «второй язык», – например, язык геометрических сближений/разделений.
У Вас – чистые геометрические формы, и какие бы связи не определялись в картинке, они остаются полем выражения одного абстрактного геометрического языка. А художественное требует говорения на двух языках. Одно и тоже должно быть выражено двояко, – тогда возникает троп.
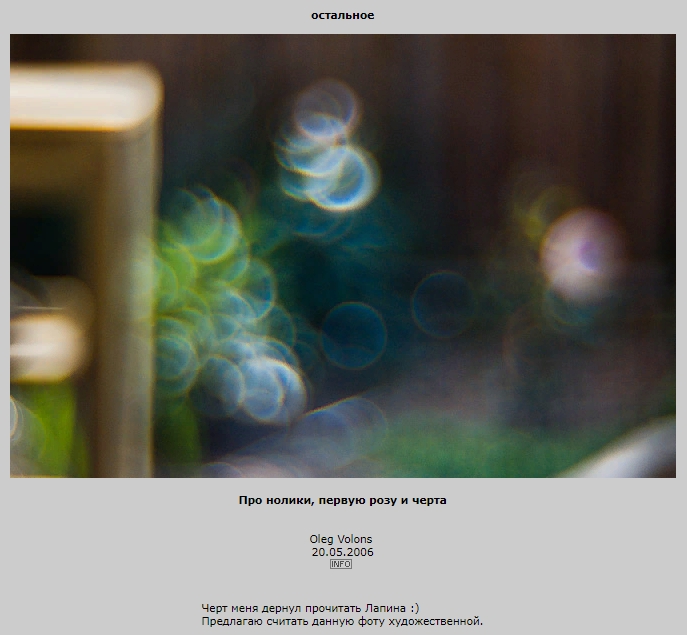
Фотография является художественной, если в ней присутствует художественная форма, то есть обнаруживается формальный язык искусства. Отношение «художественной» фотографии к «нехудожественной» подобно отношению поэтического произведения к бытовой речи: что такое стихи – всегда ясно по формальному признаку. Стихи – это форма, художественная фотография – тоже форма. Конечно, форма исторична, изменчива: то, что вчера не воспринималось как поэзия, сегодня таковой является. То, что вчера рассматривалось как фотоискусство, сегодня может восприниматься как простая фиксация события.
Эдуард Чередник: На сегодняшний день мне известны только две точки зрения, дающих предельно понятный ответ на то, что такое художественное. Первая точка зрения указывает на то, что любое произведение является художественным, если помещено в соответствующий контекст; вторая точка зрения говорит о художественном, как о высказывании на языке вторичной моделирующей системы.
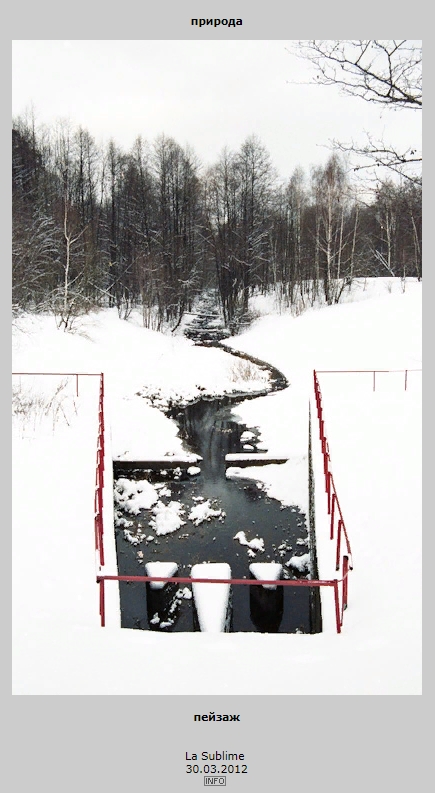
Группа, разделяющая вторую точку зрения (художественное есть высказывание на языке вторичной моделирующей системы) хоть и полностью разделяет минимально необходимое требование к контексту, но выдвигает еще ряд требований к произведению, чтобы оно могло считаться художественным.
Вместе с тем, первая группа не имеет ни малейшей возможности упрекнуть вторую группу в отсутствии художественности, ведь чтобы не делала вторая она по определению выполняет все те требования первой – от модератора психического состояния и до помещения произведения в контекст.
«Художественный репортаж» – это оксюморон. Что такое оксюморон? – Это печальная радость о вторжении войск варшавского блока в Чехословакию, это живой труп истории и светлая тьма прошедшего времени. Почему? – Потому, как это безумно красиво! И эта красота и стройность есть результат вторжения, разгрома чехословацких реформаторов, и в конце концом, смертей (как с одной, так и с другой стороны). Вторжение было прекрасно – это утверждают фотографии. «Художественный репортаж» возможен только как противоречие, стилистическая «ошибка», как эскапизм, побег из реальности, – но тогда это… не репортаж.

Josef Koudelka: The 1968 Prague Invasion
Зритель воспринимает фотографии Куделки как репортаж, если он укоренен в реальном и бытийствует как исторический субъект, интересуется деталями исторического события, лицами участников конфликта, их эмоциями, борьбой, манифестациями, одеждой, и т.д. Среди работ Куделки много отборных репортажных работ, – их интересно разглядывать. Но есть у него и штук 5–7 шедевров художественной фотографии. И как только подходишь к ним, интерес к самому событию исчезает, зритель переходит в другое состояние. Искусство предполагает другой способ бытийствования субъекта. И совместить репортаж и искусство в одном перцептивном акте никак нельзя.
Вообще, «художественность» кроется не в украшательстве, а в неожиданном взгляде, в странных «сшибках» вещей. Искусство – это система растяжек и противовесов прямому смыслу.

Эдуард Чередник: Фотожурналисты занимаются журналистикой, рентгенологи – медициной, астрономы – астрономией. И те, и другие, и третьи используют фотографию для достижения своих, сугубо прикладных, целей. При этом, только неадекватные фотожурналисты считают, что они занимаются фотографией. Бедную фотографию едва начали считать искусством, как её оседлали и увели в тупик журналисты, навязав ей свои узкопрофессиональные цели. Гнать их из фотографии взашей, чтобы своими заблуждениями не наносили дальнейший ущерб фотографии. Художественая документальная фотография – полная нелепица, как заявление в милицию, написанное ямбом.
Любопытно, что каждый кондовый и на всю голову идейный репортер считает своим долгом рассказать художнику о том, как тот должен работать. Хочется этих горе-репортеров всех дружно послать на… экскурсию в Лувр, Тейт, МоМA и т.д., чтобы они хоть примерно поняли где они, а где – искусство.
Искусство появляется только тогда, когда в произведении есть структура, являющаяся объектом независимой рефлексии. И Лапин тут не при чем: это, вроде бы, в любой приличной книжке по искусству написано. Например, у Эйзенштейна. Почему Парфенон – произведение искусства, а банька, построенная на даче каким-нибудь дядей Мишей, – нет? Потому что Парфенон имеет структуру, которая, во-первых, никак не связана с его функциональным назначением, во-вторых, которая является объектом самостоятельной рефлексии и эстетического восприятия, не связанного с функцией объекта. А банька – это просто банька. Как этот снимок:

Буду благодарен тем, кто мне объяснит, в чем состоит структура, превращающая этот кадр в художественную фотографию. Только не нужно писать, «что хотел сказать автор» и «какие эмоции вызывает снимок у зрителя». Меня интересует форма, – только форма превращает нехудожественное в художественное. У этого изображения нет структурных элементов, которые выводили бы взгляд зрителя за пределы обычного миметического зрения. Изображено ровно то, что изображено; изображено так, как видит «бытовой» взгляд прохожего. И это стали называть фотографией? На мой взгляд, это – кадр, выдранный из фильма, часть истории, повествования, хроники; вот и название компенсирует «обрыв пленки»: что не удалось воплотить в этом одиночном кадре досказывают слова…
Композиция // Метареализм
Отделить элементы композиции от сюжетнообразующих элементов изображения бывает очень трудно. Дело в том, что единство изображения и композиционного строя на том и базируется, что они оба выражают предмет и явления, но первое в его частном проявлении, а второй – в обобщенном, принципиальном виде. Мы отнюдь не противопоставляем принципиально изображение и композицию. Да и где граница одного и начало другого, и граница одного (изображения) не есть ли как раз отправной элемент другого. У Вас же получается так, что композиция только придает «красивость» сюжету, который и есть главное в изображении. Абсолютно не согласен.
Бывают ли стихи интересные по смыслу, но банальные по поэтической структуре? Или стихи, интересные по рифме, но скучные по содержанию? Если бывают и первые, и вторые, – то это просто не стихи. Так и фотографии, в которых происходит расслоение на сюжет и форму, – не фотографии. Между формой и содержанием не бывает «баланса». Я согласен с Хосе Ортега-и-Гассетом, который считал, что художественное произведение создает такое содержание, которое вне формы произведения не существует.
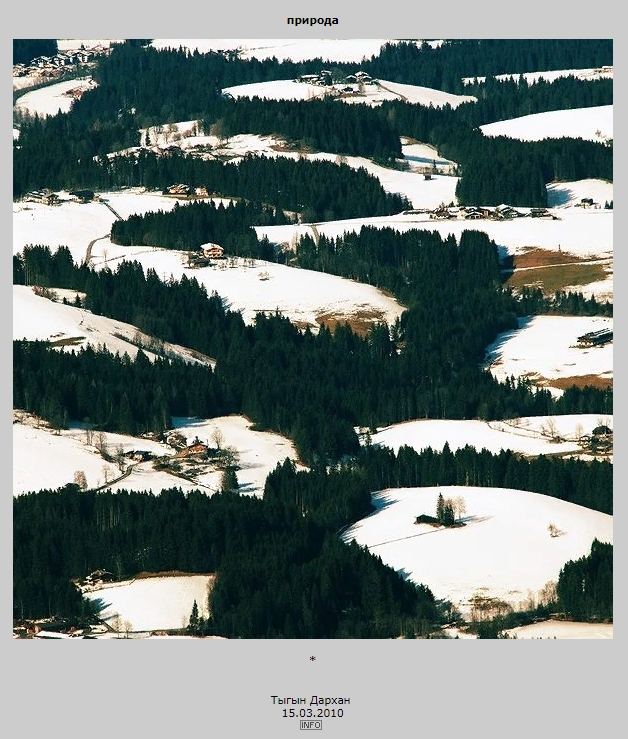
Владимир Фаворский как-то заметил, что «Всякое представление автора о Боге есть композиционное начало». Это очень точная и глубокая мысль. Трансцендентное можно выразить только композиционно, а выраженное сюжетно – только бытовое обобщение реальности, но не более того. В подтверждение своей мысли Фаворский приводил такие примеры: «рок» в греческой трагедии – это композиционное начало, и Кутузов у Льва Толстого, который все понимает, – тоже композиционно. Поэтому исключительно сюжетные фотографии, не опирающиеся на осмысленную композицию, всегда банальны (зато легко доступны зрителю с улицы).
С моей точки зрения не бывает «хорошей композиции» или «плохой композиции». Равным образом нет «хорошей фотографии» или «плохой фотографии». Вообще, разговоры о плохом и хорошем более уместны в продуктовом магазине. Композиция фотографии — это всегда инструмент смыслового сдвига. Инструмент либо адекватно применен, либо неадекватен.
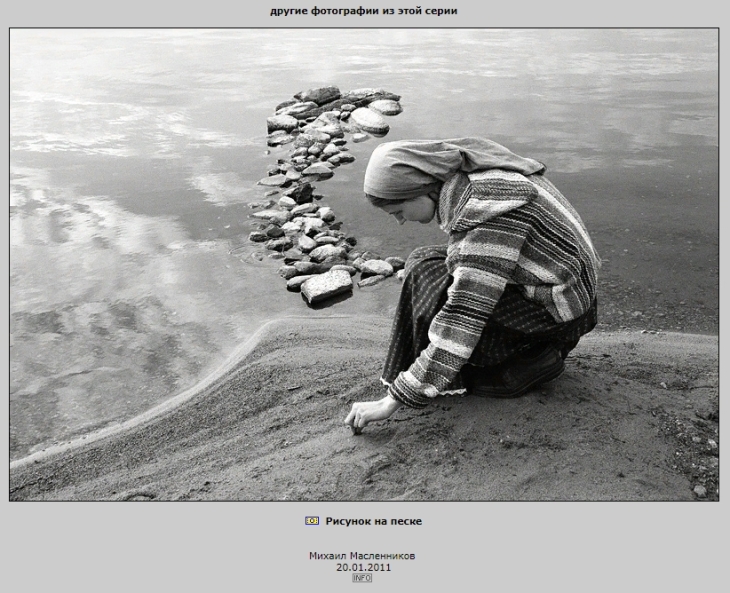
«Может ли “бесструктурная” картинка быть визуально привлекательной (художественно оправданной, осмысленной…)» — Безусловно может! Для того, чтобы фотография состоялась достаточно, чтобы предметы (вообще, – мир) были показаны как бы лишенными привычного обиходно-утилитарного значения, отделенными от их бытовой функциональности. Поэтому “жучки” Милицкого и почтовые ящики Барона – настоящие фотографии, пусть и нехудожественные (т.е. без нарочитой структуры). Я бы назвал их примерами «немиметической» фотографии: предметы очень обычные, но сняты так, будто видишь их первый раз, как в детстве, когда не понимаешь, что с вещью делать.
Вообще, если фотограф не желает работать со связями, их нужно тщательно избегать, как избегают случайный тональных сближений в атональной музыке.
Эдуард Чередник: Малые дети закапывают в песочек одуванчики под цветными стеклышками и придумывают всяческие «ритуалы» для закапывания своих «секретиков». Несчастную композицию уже так укатали под стеклышки знахари и кустари всех мастей, что просто неприлично обсуждать эту тему, а ритуальных заклинаний и вовсе несть числа! Это устное народное творчество кочует с книжки в статейку, из статейки на сайтик, с сайтика в книжку и т.д. Целые россыпи стеклышек разноцветных и секретиков тайных-претайных-сокровенных – просто ахренеть можно. На любой вкус – тут тебе и тайны мозга человеческого, и сокровища Агры, и НЛО с древними знаниями Тибета, и ядерный синтез, и личный опыт и недецкие ощущения, и философская тоска. Боже мой, какой секрет афигенно-ахрененный эта композиция, ну ни дать ни взять – философский камень!

Честно говоря, сами по себе «крестики и нолики» меня мало интересуют. Я – фотограф метареалист, и геометрическая структура изображения меня интересует лишь в той степени, в какой она является посредником для создания метаболы – взаимопроникновения планов бытия, в обычной жизни считающихся раздельными и несвязными. «Метареализм – это реализм метафоры как метаморфозы, постижение реальности во всей широте её превращений» (М. Эпштейн).
Законы восприятия // Псевдонаучные спекуляции
Меня настораживает, что многие преподаватели фотографии при слове «восприятие» тут же вспоминают о психологии. Взять хотя бы покойного Лапина. «Глаз входит в картину слева»… – ну что это значит? каков статус утверждения? Напротив, литературоведы как-то обходятся без психологии восприятия. Им есть о чем говорить «изнутри» произведения, выманивая его смыслы. И этот подход продуктивен. На мой взгляд, стихотворение, написанное как отклик на фотографию намного ценнее, чем псевдонаучные психологические спекуляции.
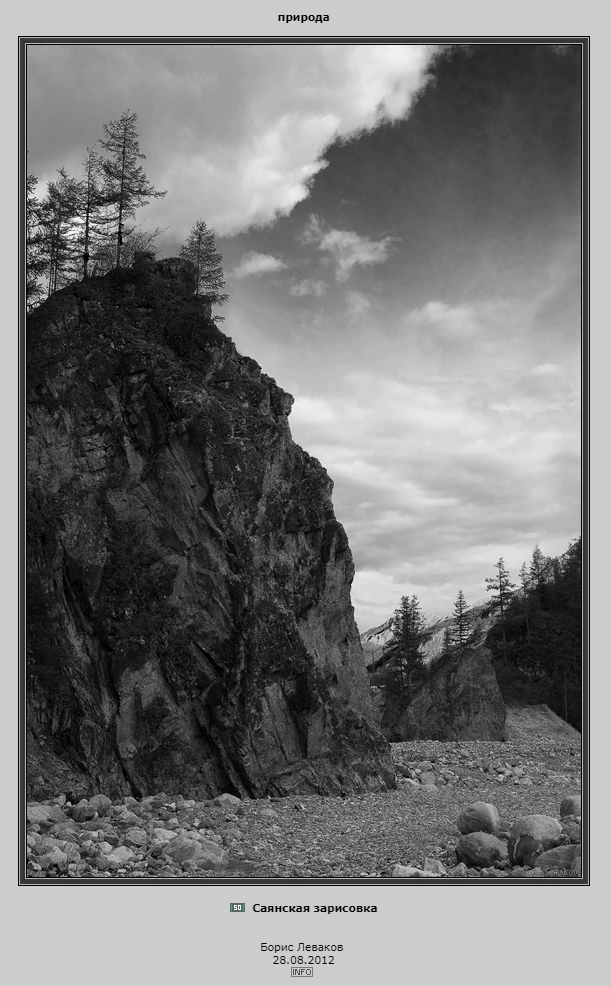
Если бы законы зрительного восприятия существовали, т.е. имели такой же статус всеобщности, как, например, закон тяготения, то искусство, на них основанное, было бы одним те же во все времена. Но история искусства показывает, что в античности люди видели не так, как в нашей современности. Особенности античного видения отражаются в памятниках той эпохи. Следовательно, правы те искусствоведы, которые считают, что не особенности зрения, его «законы», – основа искусства, а само искусство – воспитатель зрения. Как писал Эрвин Пановски, перспектива нам кажется естественной, не потому что на отражает незыблемые законы оптики человеческого зрения, а потому, что искусство приучило считать перспективу чуть ли не единственно правильным способом презентации пространства. История искусства только подтверждает это мнение выдающегося искусствоведа. Поэтому разговоры о «законах» довольно бесперспективны. Тем более, никто не называет ни одного закона.
Эдуард Чередник: делов-то, нужно учредить думский комитет по делам композиции и принять, наконец, в первом чтении федеральный композиционный кодекс, в который войдут основные законы композиции. Затем принять соответствующие поправки к уголовному кодексу, ну а надзор за исполнением законов композиции поручить, естественно, генеральному прокурору.
Только суд должен решать споры художников, поэтов, фотографов и прочих эстетствующих субъектов беспристрастно руководствуясь исключительно действующими статьями законов композиции и выносить соответствующие судебные решения, которые можно будет обжаловать в установленные сроки в строгом соответствии с гражданско-процессуальным кодексом. Также можно будет добиваться отмены судебных решений в порядке надзора.

Фрэнсис Бэкон кроме живописи занимался фотографией и еще он был умным мыслящим человеком. О фотографии он высказал на мой взгляд очень глубокую мысль. Он сказал: «она не изображение видимого, она и есть то, что видит современный человек». Поэтому зазор между бытовым взглядом («вещизм», который реализуется в обычных фотках) и особым взглядом настоящего фотографа и делает возможным фотографию как искусство.
Нужно не бездумно следовать правилам популярных учебников, а поначалу осмыслить: с чем связано то или иное правило? Скажем, «правило» не делить кадр пополам связано с тем, что деление равно пополам акцентирует функцию сравнения этих половинок. То есть такое деление – художественный прием, работа с полем кадра, а не с объектами изображения. А популярные учебники учат снимать как можно «естественнее»,– так, чтобы фотография не задерживала взгляд на особенностях самого изображения, а прямо приводила зрителя к тому, что изображено. То есть, школьные правила учат проговаривать текст, а не стихи. Ну, сами выбирайте, что вам нужно.
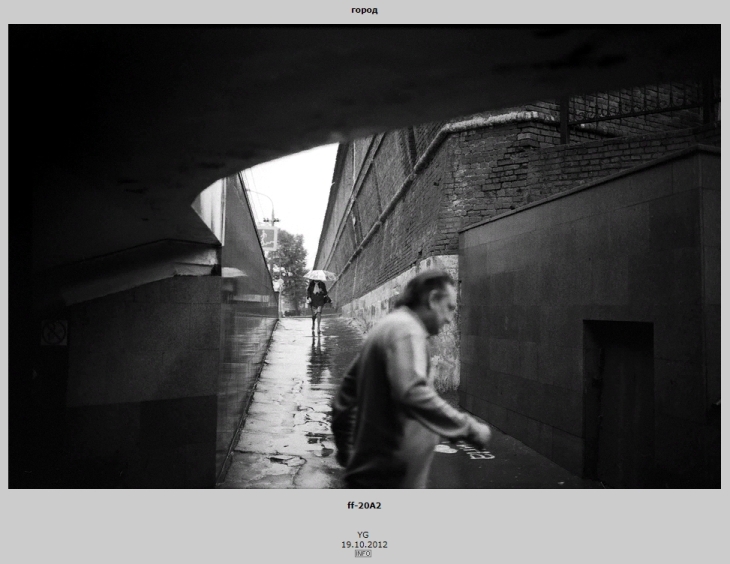
История культуры не подтверждает существования устойчивых композиционных форм, которые считаются красивыми во все времена и во всех культурах. Я думаю, что «красота» – чисто культурный исторический феномен. Скажем, египетское искусство вовсе не считалось искусством на протяжении тысяч лет до Наполеона. Эллинское искусство презиралось в Средневековье. Собственно, эпоха Возрождения и была эпохой возрождения античной традиции в искусстве. Утверждение, что деление в пропорциях золотого сечения является универсальным комп. принципом с античности до наших дней – не более чем миф, выдуманный в 19-ом столетии Фехнером и др.
Я по-прежнему считаю, что «художественность» скрывается не в геометрических формах или своеобразной игре пятен света на снимке, а в использовании инструментов, – общих всем искусствам, – каких, как метафора, метонимия и т.п. Метафора и метонимия – главные художественные инструменты порождения новых смыслов, – смыслов которые не могут быть выражены никак иначе, как только с помощью использованных приемов. Если смотреть на композицию фотографии (т.е. систему отношений иконических знаков) как на характеристику снимка, не зависимую от его темы, то композиция становится чисто орнаментальным элементом, так сказать добавочным украшением снимка, чем-то вроде завитушек букв при письме, – вещью симпатичной зрителю, но буквально бессмысленной (т.е. не порождающий новых смыслов).

И в заключение кратко скажу, в чем ошибка психологического подхода в фотографии. Фотография дается зрителю в актах вос-при-ятия. Вот это «при-ятие» имеет более глубокие корни, чем психические реакции, как они исследуются психологией. Психология проскальзывает мимо того, что составляет суть фото.
Искусство // Красиво или не красиво?
Вопрос не в том, работает схема или не работает для определенного зрителя, вопрос: есть ли схема, т.е. перцепт в конкретном произведении? Предмет искусства – сама схема, а не эмпирические чувства того или иного зрителя зрителя. Произведение может ждать зрителя десятилетия или века. Это ничего не меняет. А раз содержание произведение – схема, то есть о чем говорить точно. Вот о эмпирических чуйствах зрителя говорить никогда не нужно, это по меньшей мере вульгарно.
А.Шёнберг как-то сказал: «Во времена расцвета искусства его оценивают словами: истинно или ложно, во времена упадка: красиво или не красиво». К этому утверждению хочется добавить: «… а во времена исчезновения: есть настроение или нет настроения». Впрочем, «исчезновение» относится не столько к искусству, сколько к художественно грамотным и чутким к визуальной субстанции зрителям.
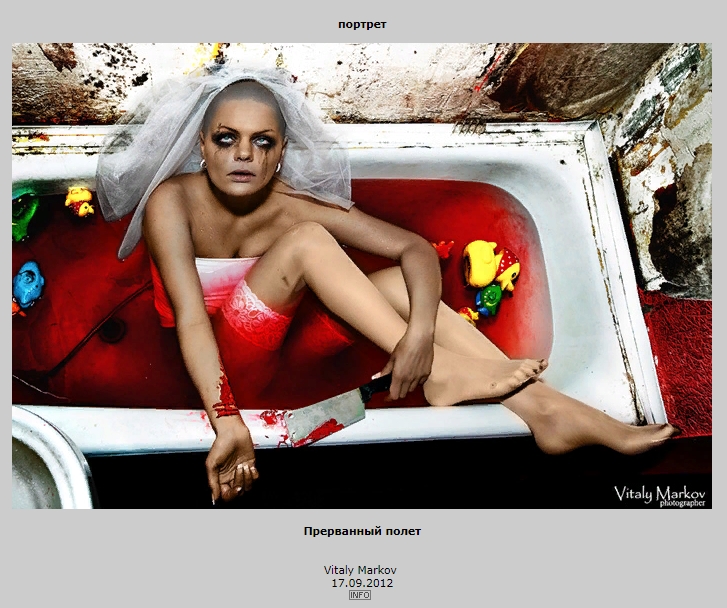
Теперь в искусстве видят одну из форм отдыха или дежурное средство от скуки. Фотографии оцениваются на «вкус»: нравится ― не нравится. «Торкнуло» ― значит, хорошая фотка, не «торкнуло» ― плохая. При таком подходе не обязательно уметь видеть и понимать искусство. Более того, искусство становится разобщающим фактором.
«Сложно понять для себя и принять, что цель искусства – не удовлетворение “эстетического” голода» ― тем не менее, уже 100 лет это так. Начиная с эпохи авангарда 1910-х искусство больше не относится исключительно к сфере переживаний, к сфере чувствования (чем, собственно, занимается эстетика). И красота – вовсе не идеал (идол) искусства. Красота вытеснена исключительно в сферу популярного искусства: там все такое красивенькое, приторное, как попсовенькие пейзажи на первой странице лайна. Из сферы эстетического новейшее искусство уже давно вышло и вышло в сферу этического. Искусство – способ организации жизни, создания новых ценностей.

Эдуард Чередник: искусство есть дитя своего времени. В двадцать первом веке снимать по канонам двухсотлетней живописи можно только в стол для себя и для друзей. Это творчество не имеет ни единого шанса изменить/повлиять/поучаствовать в ходе истории искусства.
Всё то, что современно сегодня – находится в музеях современного искусства, естественно, пройдя предварительную «обкатку» в галереях и на выставках. (Кстати, выставка – это лишь первый шаг к введению предмета в «культурный оборот». Выставка, работы с которой не попали ни в одну галерею – неудачная. И чем больше таких «выставок» с нулевым выхлопом – тем хуже для автора).
Нужно задавать такие вопросы: в чем предназначение человека в мире? Что такое искусство, как оно связано с предназначением человека? Если назначение человека такое же как любого другого животного: реализовывать свои животные инстинкты и рефлексы, упорядочивая мир в соответствии со своими физиологическими потребностями, то попса – это «наше всё», единственное искусство, которое имеет право быть.

Начало правильного дискурса об искусстве может быть таким: каждый пытается объяснить себе самому, что такое искусство для него. То есть, понять искусство, исходя из своего опыта. И совершенно не важно, что по конкретным произведениям могут быть разногласия и споры между участниками обсуждения. Эти разногласия только выявят суть искусства.
Думаю, начинать нужно с отказа от деления фотографий на хорошие и плохие. «Хорошее», «плохое» – это потребительские категории. Зритель потребляет фотки, не сам изменяясь. А в чем смысл фотографии как деятельности? – измениться самому, а не убедить других, что стал фотографом или что снимаешь «хорошо». Ко мне приходят зрители и говорят: не нравится. Ну и что? Разве я для вас снимаю, чтобы вам приятно было? – Я снимаю для себя, чтобы определить свое отношение к миру. А вот если так настроиться, то и другие зрители будут меняться, в первую очередь те, кому мои фотографии «не нравится».

Во-первых, решите для самого себя, задайте себе вопрос: «есть ли искусство для меня?». Не искусство для социума, не трескотня по поводу искусства кураторов, критиков, дилетантов, а просто есть ли произведения искусства для Вас одного. Например, бывает ли, что Вы открыли в сети фотографию – и дрожь пробирает: «вот настоящее искусство!», – думаете Вы сами, – а не говорят Вам, что это мол, искусство, но именно Вы сами так понимаете. Если такого личного опыта у Вас нет, то искусство для Вас – что-то вроде Бунюэлевских «сурсиков». Сурсики есть? – а кто их знает… Как бы обсуждать нечего. Пусть говорят те, кто разбирается. Но тогда знайте, что всегда были люди, у которых есть личный опыт встречи с искусством.
В 80-е годы в бытность мою аспирантом МГУ я захаживал на филфак слушать лекции Михаила Викторовича Панова. Он не был каким-то узким специалистом по искусству поэзии, его филологическая специализация – фонетика, фонология, и в этой области его считают гением. Но лекции он читал о русской поэзии. Из них я почерпнул много важного. Недавно я узнал, что он и сам писал стихи, – прекрасные стихи. Но я о другом хочу написать: в 60–е годы к Панову подошла студентка Ольга Седакова, которая писала стихи. Она сама не знала, хорошие ли, плохие ли это стихи, нужно ли ей продолжать или лучше оставить. Панов взял тетрадку, прочел и на следующий день сказал: «это событие в русской поэзии». Так он открыл (и сохранил талант) может быть, лучшего современного поэта. Ведь никто Панову не сказал, что это искусство! Откуда он узнал? – Из личного опыта встречи с искусством. Вы, конечно можете сказать, что де, Панов раскрутил имя Седаковой, в будущем повлиял на критиков, и т.д. Но этого не было. История слишком известная. Но если Вы считаете, что не может быть личной встречи с искусством, а искусство – это строчка в топ-рейтинге, то это не то искусство, о котором говорю я и Сергей Кедров. Это что-то другое.

Во-вторых, если «искусство для меня» все-таки может иметь место, то анализу подлежит сам акт встречи человека с искусством. Именно о структуре этого акта философы и спорят. Исследователи могут расходиться по поводу художественности конкретных произведений, – это естественно, но акт встречи с искусством всегда один и тот же. И никто не сомневается, что у всех людей он один и тот же. Не потому, что люди одинаковые, а потому, что они – люди, а искусство касается именно человечности в человеке. Бессмысленно ставить вопрос об одинаковости восприятия музыкальных произведений обезьяной и человеком. Хотя как животные они чем-то сходны, но нет объединяющей «человечности», к которой и обращается искусство в своем вызове человеку.
Образованность // Комплекс неполноценности
«Мне понравилось как известный фотограф, кажется Гибсон, сказал, что те, кто учит, что снимать, сами этого не знают, иначе бы сами снимали, а не учили» ― наверное, Р.Гибсон сказал это после смерти Доротеи Ланг (безусловно, выдающегося фотографа), у которой он был ассистентом и учился, – иначе она дала бы ему по морде.
Бытующее убеждение, что де художник потихоньку творит, а критики лишь осмысляют то, что он делает, – не более, чем заблуждение не лишившихся девственной наивности авторов-любителей.

Теоретические знания формируют фотографа не в меньшей степени, чем опыт, круг общения, культурная среда и т.п. Почему-то большинство фотографов обеспокоены исключительно поведением во время съемки: считают это едва ли не самым главным для творчества. Я с этим не согласен, да и опыт мастеров свидетельствует о другом.
Вы пропагандируете не свободу искусства, а свободу от искусства, не «незашоренность» взглядов, а отсутствие всякого понимания искусства. Надо сказать, очень тривиальный и беспроигрышный подход: искусство, мол, необъятно и объяснить его нельзя. Рукоплескания «интеллектуальной» массы зрителей обеспечены.
Эдуард Чередник: Я не знаю откуда берется убеждение, что искусством занимаются широкие слои населения. Искусство принадлежит профессионалам, также как медицина, строительство, ядерная физика, философия, военное дело и т.д. Собственно, поэтому в искусстве у любителей такие же успехи и потенциал, как и у любителей в медицине, строительстве, ядерной физике, философии, военном деле и т.д. Поэтому да, требуются эксперты и галеристы – это часть индустрии искусства. Я не говорю о том, что из кустаря не может произойти профессионала, может, но только институционально, с соблюдением различных формальностей.
Советский (и современный российский), фотограф как правило, человек настолько необразованный, что у него не хватает элементарных знаний разобраться, чем он собственно занимается. От этого у него до конца жизни развивается комплекс неполноценности, и как следствие,– ничтожное ерничество в качестве защитной реакции на любые услышанные знания.

«Только жаль что книшки пра фундированность не помогут научиться шыдевры творить» ― книги по логике тоже не помогают научиться мыслить, однако они проливают свет на фундаментальные свойства мышления.
Дело в том, что автор, предлагающий что-то новое, должен хорошо знать и понимать старое, по крайней мере, владеть теми «отмычками», которые вас так раздражают. Увы, авторов, хоть как-то глубоко разбирающихся в фотографии очень мало, – следовательно, здесь нет и не может быть оригинальных новых направлений. А вот те авторы, которые которые сейчас снимают осмысленно, но используют проверенные схемы, имеют шанс со временем придумать что-то новое. Очень желаю им этого.
Эдуард Чередник: Нет, запомните это, нет таких областей, где гениальные практики были не в зуб ногой в теорию и публично расписывались в этом. Это – сообщающиеся сосуды, одно подпитывает другое, ну очевидно же. Или не очевидно?
Двоечник Петя Петренко из пятого «Б» прекрасно знает, что предложение русского языка – это слова, связанные какими-то правилами. Но правил-то он не знает, поэтому для него язык – не система. Петя думает, что пишет правильно и понятно для других, потому что он сам понимает, что пишет. А вот, МарьВанна – его училка – знает язык как систему, т.е. не только словарь Ожегова перечитывает по ночам, но и грамматику Виноградова наизусть знает. Поэтому она вправе оценивать тексты Пети Петренко не с точки зрения личного понимания («допёрла–недопёрла, что Петя написал»), а с позиции норм языка: «правильно–неправильно».
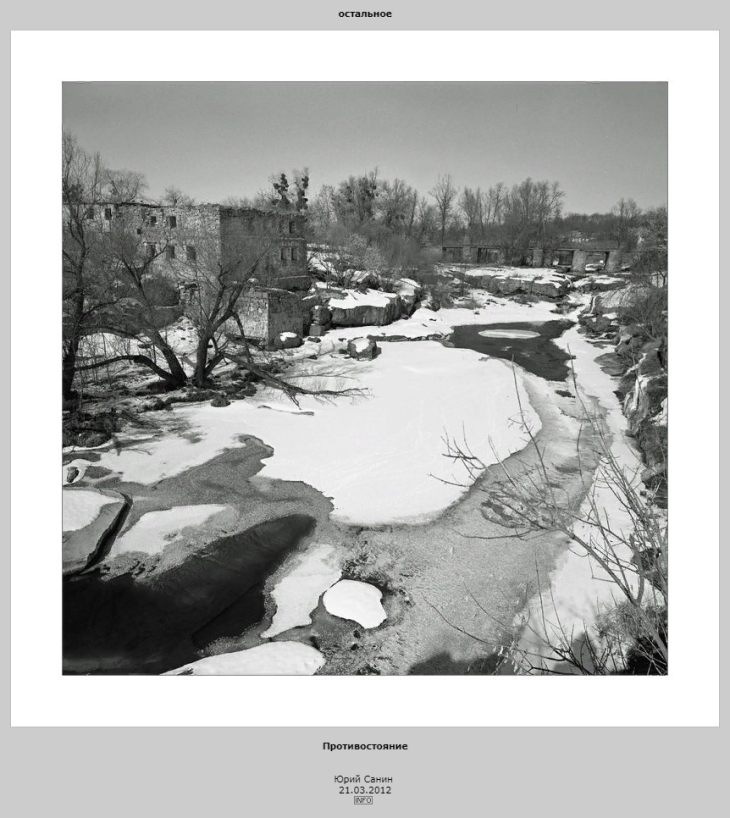
«Никакого языка фотографии не существует. Если бы было иначе, то такой язык можно было бы познать, изучить по учебнику, как и любой другой» ― безответственное заявление. Есть вещи, о которых не знаешь и не ведаешь, но которые, тем не менее, существуют. Поясню. У древних греков не было термина для обозначения того, что мы называем языком. Слово, обозначающее орган речи было, а слова «язык» не было. Из этого можно сделать вывод, что «язык» в нашем смысле никогда не был предметом рассмотрения древнегреческих философов. Это так. Но заключать, что древнегреческого языка не было, было бы странно. Есть и словари, и учебники. Для того, чтобы «язык» фотографии появился, зритель должен определенным образом относиться к фотографии. А если зритель не способен или не умеет вступать в такое специфическое отношение с изображением, то он думает, что языка нет. Напомню, что господин Журден ничего не знал о прозе, думал, что ее вовсе нет. А говорил-то прозой.
«Эта картинка не плохая и не хорошая, она рассказывает о моём восприятии деревенских похорон» ― Для того, чтобы фотография что-то рассказывала помимо сюжета (являла «авторское восприятие»), другими словами, – выполняла функцию коммуникации между зрителем и автором, – автора и зрителя должен объединять общий язык. А поскольку Вы противник композиции, противник фотографического языка, противник «разговоров о фотографии», то понимание зрителем Ваших работ возможно лишь как случайное совпадение зрительской трактовки с авторской интенцией:

Эдуард Чередник: Сам тот факт, что кто-то глубоко изучает мат. часть не должен приклеивать к нему ярлык человека Книги или человека Жизни (это очень странная классификация, кстати). Хуже, но очень часто, когда человек Жизни (по Вашей классификации) – по сути своей просто обыкновенный лентяй, который не хочет учится и публично подводит под свою лень какие-то бредовые теории агностицизма. Матчасть никто никогда не отменял.
На западе в учебных заведениях изучают всех упоминаемых мною авторов на первом-второму курсе и не делают из этого подвига, равного штурму Берлина. Че там сложного-то, блин? Бенджамин Вальтер – душка, Кракауэр – верх понятности, Эйзенштейн – посложнее, Барт – ну понять нужно его платформу, а дальше проще идет и так далее. Если желаете, могу привести список учебных заведений и их программы. Так что, Россия, к сожалению, очень далеко от мейнстрима.
Любые принципы и правила можно нарушать: было б ради чего. В данном случае «чего-то» нет: это простой этнографической снимок, не претендующий на какую-то художественность. И в данном случае следование «школьным» правилам было бы очень уместно:

«У кого сердце в том же месте что и у меня поймут…» ― ага. 95% лайна работают по этой схеме. «А зачем в любительском сообществе вести себя иначе?» ― чтобы не быть маргиналом. Впрочем, личное дело каждого. «Тот кто снимает хорошо маргинал, потому что тех кто снимает плохо неизмеримо больше» ― Неправильно. Маргинал – это тот, кто за скобками культуры.
Критериев проверить, является Кандинский великим художником 20 века, нет. Но сам вопрос: «является ли Кандинский одним из величайших художников конца XIX-го, начала ХХ-го века?» – тестовый на маргинальность зрителя. Это критерий: отвечаешь правильно, – проходишь дальше, нет – значит, ты маргинал, посиди в первоклашках.
Главный вопрос для фотографа: какое отношение мои фотографии имеют к культуре? Не к жизни, а к культуре, – обратите внимание. Этот вопрос тут не принято задавать по известной причине. Потому что жизнь так или иначе отражает любая фотография, даже откровенно постановочная.
Оценки // Пережитки романтизма
Помните: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит». Кто написал, – гугль знает. Но как интересно сказано: «Жив будет хоть один пиит». Похоже, автор этих строк был не сильно озабочен потенциальными читателями: есть ли они, нет ли их, – высший суд творений поэта принадлежит поэту – «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не «читатель», а «пиит». Вот так! А вы: «Но ежели совсем о нём, несчастном зрителе забыть, тогда можно вывесить свои картинки над унитазом и там ими любоваться, заперевшись в нужнике». Может быть, даже нужно забыть о зрителе.

И еще: какое прохладное отношение к «народу», – простым «потребителям» поэзии, – «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Поэзия полезна для народа, т.к. вызывает у него «добрые чувства». Поэт не против, конечно… но… Но слава поэта в веках не связана с этой простой чувственной аффектацией, поэт ищет в потомках знатока – «пиита», который только и поймет поэта. Фотография, наверное, тоже полезна для народа. Но… все эти фотосайты – такое заигрывание с народом, угодничество, ожидание похвалы и признания здесь-сейчас и, как разультат, – творческая пустота.
Я вот, не умею снимать, вообще, я – не фотограф, а «облако в штанах» (очень нравится определение, такое, знаете, авангардистское). Но если я говорю, что умею решать задачу, это высказывание имеет точный смысл и может быть проверено. Причем, умение решать не означает умения продавать решение. А в фотографии заявленная автором успешность на рынке услуг почему-то отождествляется с каким-то «умением снимать». Вообще, что это такое?
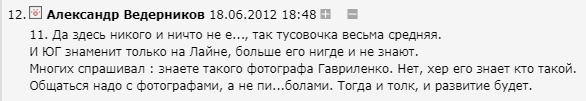
Эдуард Чередник: Это словосочетание «уметь фотографировать» как воздушный шарик – каждый может его легко накачать своим содержанием, а затем упорно отстаивать преимущества своего понимания. Бесперспективное словосочетание, короче. Если строго подойти к понятию «уметь фотографировать», то это ни больше, и ни меньше, чем «уметь нажать на кнопку аппарата». Любая обезьяна справится. На эту тему часто и справедливо иронизируют.
Для примера, – друзьям Иосифа Бродского не пришло бы в голову защищать его поэзию тем, что за неё присудили Нобелевскую премию. Это было бы глупо и принизило бы великого поэта. А то, что Вы не нашли других аргументов в защиту автора, показывает, что дело очень скверно.
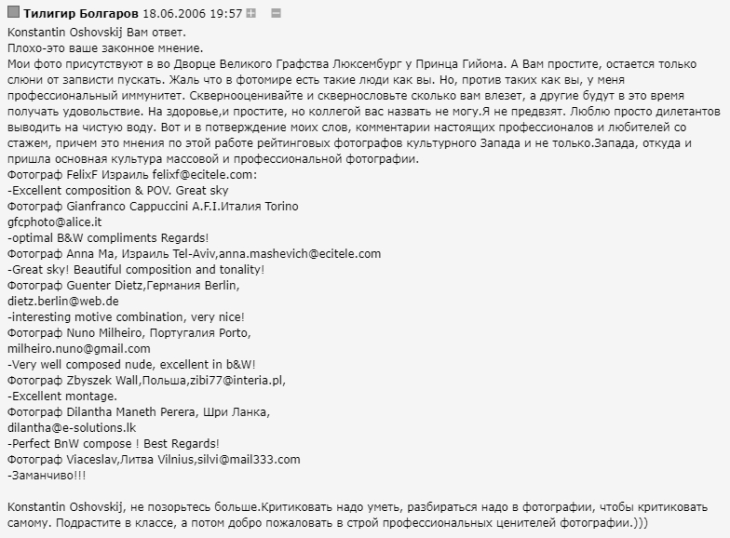
Можно оценивать фотографии и «без знаковой системы»: к примеру, пищу оценивают же без знаковой системы, так сказать, – «по вздутию живота». «По вздутию живота» можно оценить все что, угодно, – и фотоснимки, в частности. Что, собственно, и наблюдаем в последнее время.
Широкая публика ныне предпочитает чистые насыщенные цвета. (С которыми, конечно, автору легче работать, чем с тонкой палитрой полутонов: задрал уровни в ФШ, – вот и вся работа). Возможно, сейчас меняется цветовая эстетика зрения: зритель воспытывается на рекламе, трехцветной полиграфии, цифровых фильмах с насыщенными цветами, а хорошей тонкой живописи не знает. Напомню, что чистые цвета характерны для живописи Раннего Возрождения, а затем долгие века шел процесс обогащения палитры. Художники решали задачу гармонизации цвета. Бессмысленно осуждать зрителей, коим нравится то, а не иное, – но понимать, что происходит, полезно.
И еще отмечу, что зрителям фотолайна очень нравятся простые работы, содержащие прямое сопоставление (по схеме метонимии) большого с малым, живого и неживого. Подобные карточки вызывают неизменное одобрение, несмотря на избитость приема:

Облака, закаты, собачки – любимые темы начинающих фотографов. Так сказать, пережитки романтизма. Мода на облака появилась во времена Гёте. В то время облака стали пониматься как место манифестации видений, как бесконечный изменчивый текст, в котором перманентно проступает трансформирующаяся картинка, аналогичная потоку образов, проходящих в душе наблюдателя. Облако — это как бы душа зрителя, вынесенная вовне. Поэтому облака всем нравятся: каждый «читает» в их манифестации то, что его душе угодно. Один вид облаков дает толчок к свободной медитации зрителя. Поэтому облака всем нравятся: каждый «читает» в их манифестации то, что его душе угодно. Один вид облаков дает толчок к свободной медитации зрителя. Это плохо. То есть, конечно, не облака сами по себе плохи, а отсутствие художественной структуры у фотографии:

Портрет // Трактовка портрета собаки
«Искусство портрета – это искусство неформального контакта, это искусство ненавязчивого, но досконального проникновения, это искусство философского осмысления, это иррациональная способность всепроникающего видения» — ладненькая фраза, слишком гладкая, чтобы быть правдой. Последнее время в гладких фразах чувствую подвох: такие фразы – оружие коррупционера, как бы уверенно знающего, что такой брехне поверят. Настоящая мысль – рваная.
Эдуард Чередник: Портрет – один из самых древних изобразительных жанров. Миметическая задача, т.е. задача сделать изображение лица “похожим” на человека была решена во времена Византии. Последующие тысячи лет были направлены на то, чтобы научится заполнять остальное пространство. Целыми поколениями заморачивались пропорциями, светотенями, символами, цветами и т.д. Одним словом, пытались пройти чуть дальше, чем фиксация задумчивого взгляда модели. Потом фотографы подхватили знамя и начали искать свой путь, уже лет 200 как ищут. Аведон, Манн, Люкс, многие тысячи имен сказали что-то свое, застолбили пространство. Делать портрет сейчас – это идти вперед с уже известного людям. Можно конечно, забить на все и тупо пытаться передать взгляд модели и вооружившись гороскопом толковать содержание взгляда. Но место таким попыткам или в семейном альбоме или в журнале любителей астрологии. К искусству фотографического портрета все это не имеет ни малейшего отношения.
Рассматривая портрет человека, зритель старается «разгадать» выражение лица, понять: «что там в душе?». Разглядывая собачку, киску, попугая и прочих бессловесных, зритель свободно проецирует на них любое человеческое психическое состояние. Трактовка «портрета собаки» произвольна. Поэтому «портреты животных» нравятся всем: каждый видит в них то, что хочет найти.
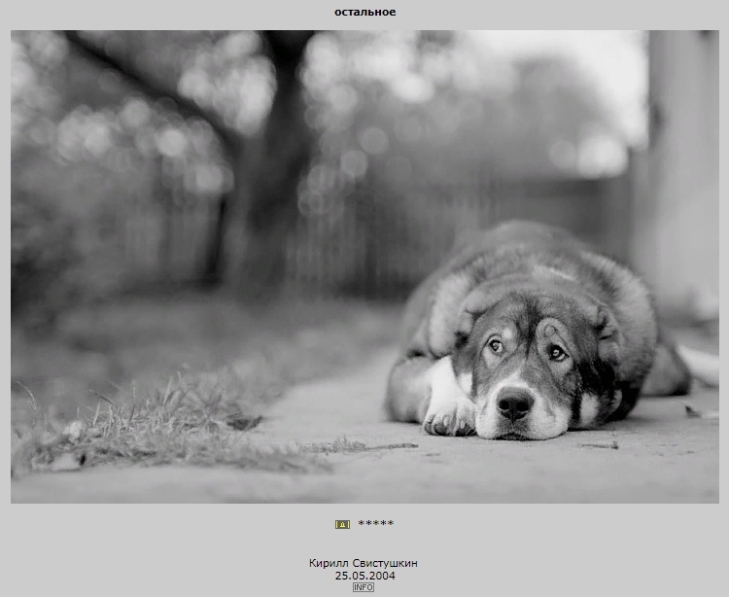
Печальному лицу проще приписать какое–нибудь «значение»: от неразделенной любви до недетского глубокомыслия. На самом деле такие лица ничего не выражают. И лицо девушки на этом снимке – «нулевая форма лица» (по аналогии с ролан-бартовской «нулевой формой письма»). Такие лица я вижу каждый раз в метро вечером рабочего дня. Но зритель легко проецирует свои чувства и эмоции на портретируемого. Каждый видит, что хочет. Самое удивительное, что несмотря на очевидную серийность, почти шаблонность подобных фотографий, они не перестают нравиться. «Читать в лицах» – это умение проецировать своё психическое состояние, свой внутренний мир на лицо-маску портрета” (Штакеншнейдер).

Есть такой нехитрый прием показать характер портретируемого. Просим его смотреть в объектив и сделать серьезное эмоционально нейтральное лицо. Зритель смотрит в глаза портретируемого на фотографии (это обеспечивает тесный «контакт») и нейтральному выражению лица приписывает любую степень душевной глубины. Многие фотографы всю жизнь так снимают и даже персональные выставки устраивают из таких бесхитростных карточек.
«Я могу нафантазировать про этого человека всё, что угодно. И это достоинства этого портрета» ― нафантазировать можно и без портрета. Не странно видеть достоинства фотографии в том, что она запускает фантазирование?
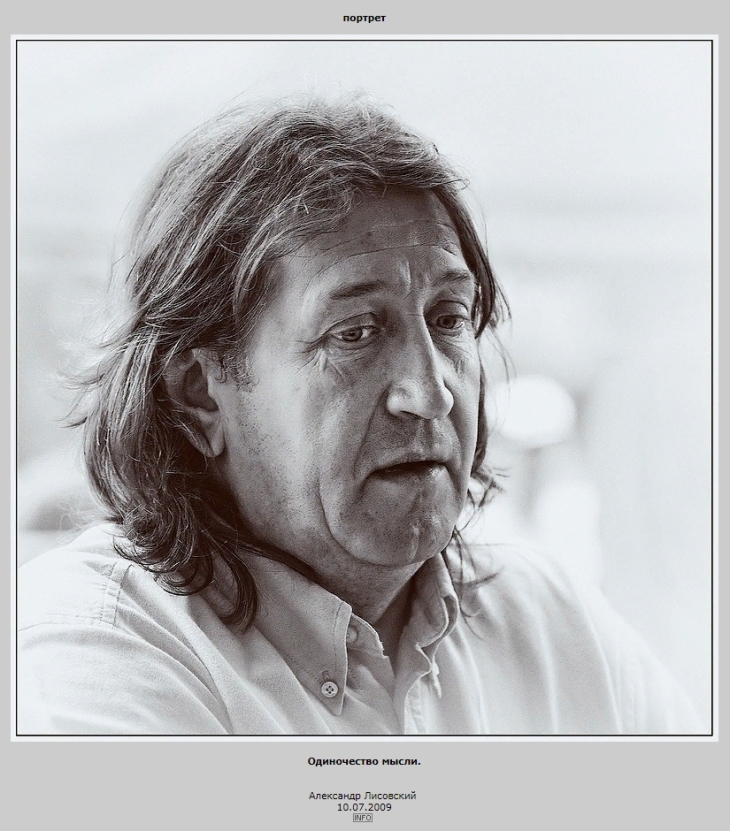
Анри Картье-Брессон писал о фотографическом портрете: «Если, делая фотопортрет, ты стремишься уловить в модели внутреннюю тишину жертвенности, помни, что нелегко поместить фотокамеру между рубашкой и кожей. Что до портрета карандашом, то внутренняя тишина необходима, скорее, самому рисовальщику». Это глубоко. И вовсе не о вытягивании «истинного характера». Вообще, что такое «истинный» характер? Хорошо известен скандальный случай с портретом графини Орловой. Ни сама графиня, ни ее родственники не хотели брать портрет В.Серова именно по причине несоответствия образа реальному характеру. «Не похожа», – говорили они. «Ничего», – парировал Серов, – «через 50 лет будет похожа». И великий портретист оказался прав: кому сейчас дело до «истинного» характера графини? А портрет – жемчужина мировой живописи.
Я думаю, что фотография – это кристалл. А кристалл – материя, которая является не тем, чем выглядит. Кристалл – не обычный кусок хрусталя, кварца или серы, являющийся просто материей, – а предмет, назначение которого — дать доступ к трансцендентному: форме и топосу, то есть, чему-то абстрактному и умопостигаемому. Таким образом, мы смотрим на кристалл, а видим сквозь него и видим топос и форму. Фотографический портрет – тоже кристалл, как и любая фотография. Если зритель ищет «образ», или «психологию» персонажа, он видит просто материю. Отсюда и попытки расшифровки психического состояния. Психология и характер – это земное. Но если зритель видит кристалл, он получает доступ к трансцендентному, – тому, что «за» психологией образа. И тогда психология портретируемого становится фоном, а не целью и смыслом портрета.

«А тут из симпатичной девушки сделали инвалида» – яркое свидетельство неугасимой индексальной ценности фотографии: образ, создаваемый фотографией, переносится на первообраз. На фото девушка безрука, — это свойство переносится на первообраз и как бы унижает девушку, делая ее как бы неполноценной. Не поэтому колдуны так любят производить манипуляции над фотографиями своих жертв?
Искусство удваивает реальность, причем, самыми различными способами. Самый простой метод – миметизм, подражание реальности. Естественно, что при удвоении происходит сдвиг, копия не адекватна реальности. Именно это делает возможным само искусство, поскольку «копия» – знак реальности – вовлекается в такие умозрительные связи, в какие оригинал не может быть вовлечен. Но удвоение может происходить в поле произведений искусства. В 1919 году Дюшан создает L.H.O.O.Q – Джоконду с подрисованными усиками (само название расшифровывается как: «Представляю, как тепло у тебя в жопе, дорогая»). Здесь удваивается не реальность, а объект искусства, и копия вносится в поле гротеска и буффонады. L.H.O.O.Q воспринимается как игра с картиной да Винчи, даже как издевательство на искусством, но не издевательство над реальной Лизой, женой Франческо дель Джоконда, послужившей моделью Леонардо.

Обычно считается, что фотография тоже есть инструмент удвоения реальности, причем, удвоения весьма точного. Возможно, так и есть на самом деле, но у фотографии есть значительно более важная черта, отсутствующая у живописи: индексальность. Именно эта черта более всего характеризует фотографию как культурный феномен. Фотографии через негативы непосредственно связаны с объектами реальности. Однако, фотография – не просто образ реальности, но индекс. Поэтому «семантические игры» с фотографией приводят к совершенно другим результатам, чем дюшановские игры с живописными произведениями.
Эдуард Чередник: Главное в фотографии – не снимать соседских животных, ни дай бог сдохнет какое-нить животное, вину на вас повесят и будете всю жизнь виноваты перед соседями.
То, что сделала группа «Шило» – это своего рода дадаизм в фотографии, как бы детская игра по прорисовыванию усиков и внутренних органов на фотографическом изображении как проглядывающей реальности реального. Но… здесь важно уточнить, что это за реальность? И что более реально: фотография как изображение или запечатлённая на фотографии реальность? Если первое (миметизм фотографии перевешивает индексальность), то зритель находится в ситуации L.H.O.O.Q Дюшана: он чувствует надругательство над карточкой, над работой фотографа. Если второе, то есть индексальность фотографии перевешивает её миметиз, зритель воспринимает работы как издевательство над памятью людей, изображенных на портретах.

Красота // Развесистая клюква
Творчество лайновских пейзажистов только подтверждает сображение Теодора Адорно, высказанное им в «Эстетической теории» еще в 1960–х. годах: любые поиски красоты в искусстве XX века приводят к китчу. В настоящее время красота существует только как китч. Собственно, почему все эти красивые пейзажи совершенно одинаковы, шаблонны и сделаны как бы одним автором? – Именно потому, что красота растиражирована, – она везде: дома, на улице, в магазине, в музее. Красота превратилась в китч, а китч не имеет автора. Перспектива развития фотографии – отказ от красоты как ведущего принципа. У искусства фотографии должна быть более глубокая цель. Думаю, фотография будет в той степени интересна и дорога зрителю, в какой она будет о чем-то другом, а не о красоте. «What Remains» Салли Манн, равно как и ее последний альбом – такие примеры.
Эдуард Чередник: При всем уважении к Теодору Адорно, мне думается, что вряд ли фотография будет развиваться в направлении отказа от красоты. Искусство фотографии будет развиваться одновременно со развитием человека и его среды обитания, становиться и прекрасней, и ужасней одновременно, мигрировать в будущее одновременно с развитием понятия красоты. Не уверен правда, что человеку удастся сохранить его современную физическую оболочку в ближайшие 100-200 лет
Кстати, не видел ни одного календаря, в котором июнь иллюстрируется зимним снимком, а январь – летним. Из этого делаю вывод, что потребители календарей – люди простоватые, так сказать, подснежники.

На мой вкус – это совершенно затасканный сюжет (кресты, церковь, безбрежная даль), причем, фотографически решенный шаблонно. Именно так преподносили Русь, Россию на растиражированных календарях и обложках журналов вроде «Наше Наследие». Это – «развесистая клюква» для иностранцев. «Россия = просторы = церкви» – краткая формула данной работы. Здесь нет ни живой современности, ни отблеска подлинной истории России. Механически соединена архитектура и пейзаж-фон:

Кстати, есть простой критерий, позволяющий проверить, настоящая ли это фотография. Попробуйте представить эту фотографию нарисованной художником. Получилось? – значит это плохая фотография. А «Пацаны-2» могли бы быть картиной? Нет, – значит, то – фотография! Я не припомню ни одного пейзажа на фотолайне, который мог быть назван фотографией. Все это либо попсовые «красочные» открытки, либо стилизация под живопись. Олег Зверев откровенно стилизует свои карточки под русский живописный пейзаж 19 века. Но при чем тут фотография, хочется спросить? Купите краски и холст!
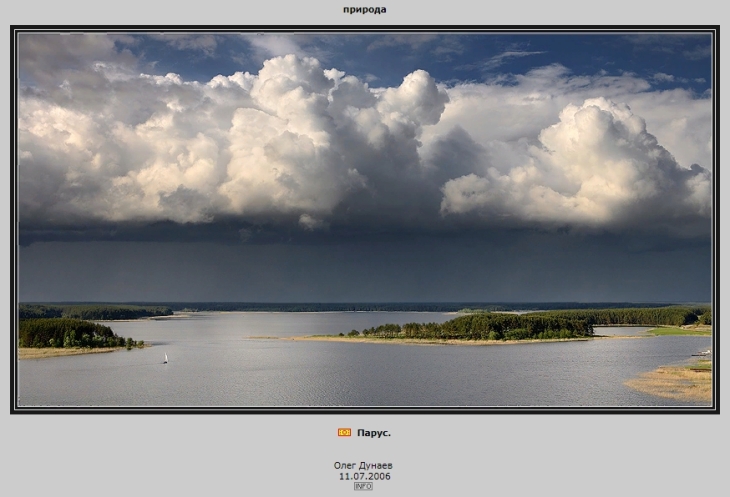
Многоуважаемый А.Шахабалов исходит из того, что фотограф как бы знает, что нужно снять (понимает «красоту природы»). На самом деле, фотограф знает, только то, что видел, – поэтому и снять может только то, что уже тысячу раз снято до него. Фотограф снимает по тем шаблонам, которые он знает. Красота природы – понятие не абсолютное, а культурное.
Фотография не должна быть ни красивой, ни целостной. Она должна определять такое отношение зрителя к реальности прошлого, какое никакими другими средствами создать нельзя. Конечно, фотография может быть и красивой, и целостной, и познавательной, и нравоучительной. Но это все – второстепенно.
Вкус // Публика – главный враг музыки

Фотографии Слюсарева – больше, чем «фотографии которые нравятся». А работы Бондера – действительно, это просто карточки, которые нравились его друзьям и вообще кому-то. Это не событие в искусстве, ширпотребная попса. О Слюсареве говорят конкретно: что он сделал в фотографии, какое направление создал, в чем его кредо. Его работы пытаются осмыслить. О Бондаре ничего не было сказано. Почему? Назовите хоть одного человека, который пытался осмыслить, что делал Бондарь?

Вкус разобщает. Дискурс о фотографии становится совершенно бессмысленным, обучение фотографии тоже теряет смысл. Чему учиться? – Делать хорошие фотографии? Но хорошие для Пети, это не хорошие для Маши. Так на кого работаем, для кого учимся?..
Это, кстати, реальность: в России журналист работает на вкусы бильдредактора, не имеющего никакого художественного образования, и кругозор которого ограничен потребностями издания. Или фотограф должен общаться с галерейщицей, 15 лет занимающейся развеской картин на стенах подвала и возомнившей, что разбирается в современном искусстве. А разбирается она не больше деревенской девочки, купившей вчера в районном центре фотик. Почему? – потому что и та, и другая опираются в выборе на свой вкус, который не может быть лучше или хуже вкуса кого-то другого. Эстетические теории 18–19 в. основанные на понятиях гения и вкуса умерли по понятным причинам, и больше не могут действовать.
Поэтому разговор о фотографии возможен только в том случае, когда говорящие находятся «по ту строну попсы», когда они понимают, что цель искусства – не удовлетворение «эстетического» голода, а что-то другое, более фундаментальное и соответствующее предназначению человека в мире, – то, что объединяет, создавая новую общность. В заключение я тоже приведу цитату, – слова композитора А.Шёнберга: «Публика – главный враг музыки». Призадумайтесь, может быть поймете, о чем он говорил.
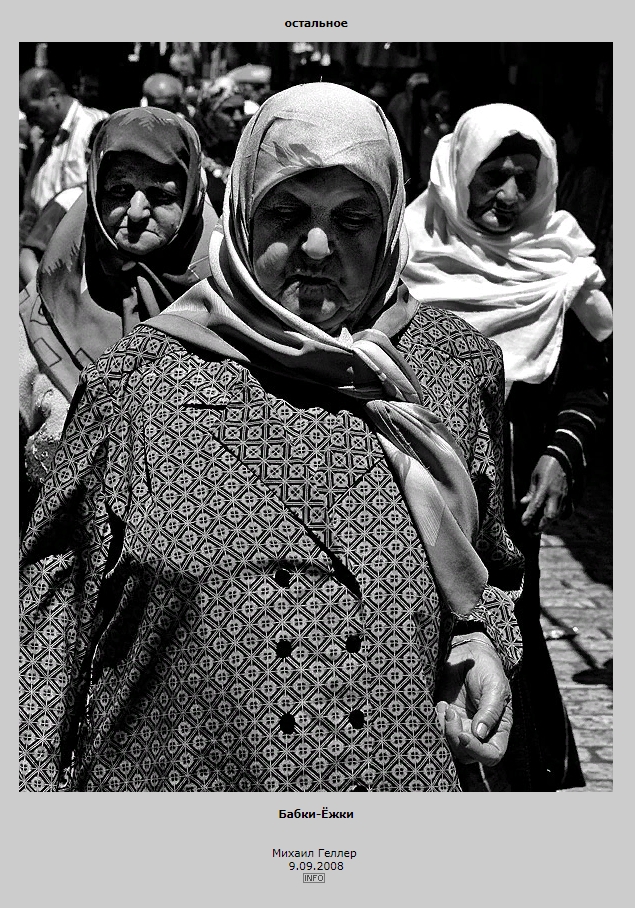
Чешский философ и теоретик эстетики Ян Мукаржовский одним из первых обратил внимание на то, что эстетическая функция присуща не только искусству, но и более широкой деятельности человека. Да него в эстетике господствовал подход, безоговорочно относящий все «эстетическое» к сфере искусства. Собственно, заслуга Мукаржовского в том, что он осознал динамику отношения эстетического в искусстве и вне его сферы. По наблюдению выдающегося философа, в искусстве эстетические нормы постоянно нарушаются, художественное творение возникает на острие конфликта противостоящих друг другу эстетических норм. Настоящий художник более склонен нарушать нормы, чем слепо следовать им.
Напротив, в бытовой сфере наблюдается противоположное явление: эстетическая функция имеет тенденцию стабилизироваться, а живой творческий поиск, присущий подлинному искусству, здесь кристаллизируется в одной из эстетических норм, нарушение которой воспринимается как посягательство на природу «прекрасного». Поэтому в области искусства нормы постоянно отрицаются, а вне его – утверждаются. Быт формирует неподвижные художественные вкусы, искусство – динамические.
Эдуард Чередник: Давай будем рассматривать фотографии, скажем, Ла Шапеля с позиций журнала “Братишка”? Выйдем в парк культуры и отдыха на день ВДВ и проведем опрос – что думает десантура о Ла Шапеле? Ребром поставим вопрос. Или Ла Шапеля нужно рассматривать с позиций журнала Огонек? Охотник и Рыболов? Садовод любитель? Недвижимость и цены? Может, составим рейтинг на базе 500 журналов и посчитаем среднее значение? Или позовем экспертов-рентгенологов и узнаем, что думают настоящие, а не липовые эксперты? Будем гибкими как медузы, менять критерии как всем будет угодно.

Сам термин «вкус» правильнее было бы употреблять только в отношении эстетической области вне искусства потому, что в сфере искусства есть понимание художественных произведений, – понимание, которое выше любых личных предпочтений и «вкусов». Вы когда нибудь читали, чтобы серьезный искусствовед заявлял: «мне нравится», «на мой вкус»?.. А здесь только и твердят о вкусах. Каждый отстаивает право на свое чувствование прекрасного. Почему? – Потому, что констатируется бытовая реакция на фотографии. Это эстетическое, но не художественное. – Поэтому царят мертвые пронафталиненные «вкусы» как зрителей, так и фотографов.
Фотографическая «открытка» – не художественное явление, а бытовая вещица, полезная для украшения быта. Вообще, фотография в интернете на 90% – это зона бытовой эстетики, массовой культуры и господства обывательского вкуса.
Гламур // Тяжелые гири шаблона
Попса – это когда вам предлагают отведать сочную пиццу из овощей, а гламур – когда предлагают посмотреть, как эту пиццу ест Дженнифер Лопес.

Гламур, т.е. лубочная эстетизация действительности, это желание представить реальность как можно красивее и игнорирование актуальных проблем. Я не против таких работ, но, извините, ничего подлинного и жизненного в них нет. Красивая ложь. Гламур – всегда нарочитость изобразительных средств, избыток выразительности, преследующей цель показать реальность лучше, чем она есть на самом деле. Разрумяненная развесистая клюква. Это стиль, задача которого в повышении статуса портретируемого человека.
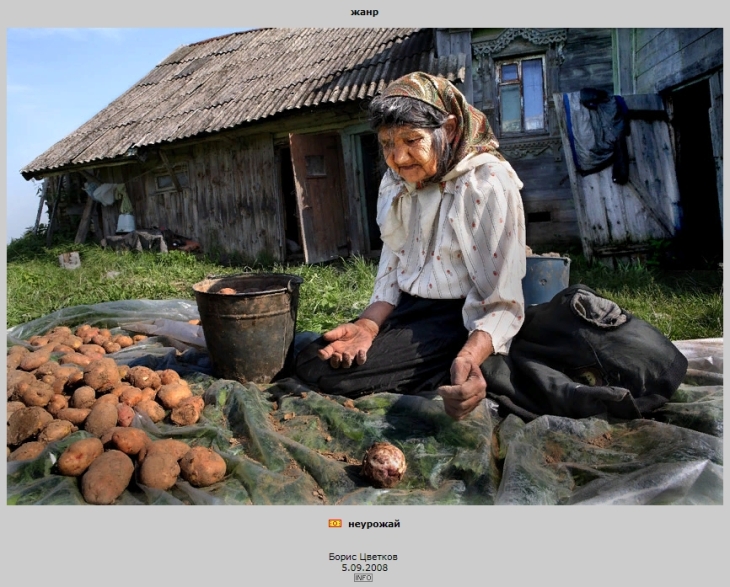
В советское время были определенные идеологизированные шаблоны, как нужно показывать героический труд на благо соц. лагеря. Не хочешь так снимать – не будут печатать. Теперь никто не заставляет заниматься украшательством, поэтому «украшательство» есть добровольный выбор фотографа. Поэтому правильный вопрос: что заставляет фотографом все чаше выбирать «гламур»? Фактически теперь гламурная ложь становится официальным искусством в России. И становится в то время, когда нет никакой необходимости выдавать красивые постановки за истинные репортажи. Почему? Я думаю, это диктат зрителя: зритель «запрограммирован» на гламур.
В советское время фотограф Юрий Рыбчинский ушел из престижного журнала, чтобы получить возможность снимать свободно и честно. Стал работать кочегаром и снимать на правах любителя. Он-то и снимал реалистично, а не официальные фотографы. Поэтому его работы останутся в истории. Диктат зрителя – совершенно другое явление. Современный зритель в своей массе воспринимает художественное как гламур. А фотограф, жаждущий популярности, должен ориентироваться на сформировавшийся массовый вкус. Тяга авторов к гламурности отчетливо видна в интернет-галереях вроде фотолайна, поскольку рейтинг фотографа напрямую связан с приятием его работ зрителем. Уверяю Вас, «украшательство» – это именно то, что ценит зритель, не разбирающийся в классическом наследии мирового фотоискусства.
Сейчас абсолютно всё снимают гламурно: и дома, и колбасы, и пейзажи, и бройлерных цыплят, и людей, не потому что всё – товар, а потому, что всё должно быть привычно, удобно и радовать обывателя. Ненавижу!

Не крестьяне гламурны, а серия снята гламурно, то есть показана эстетика и стиль жизни. Снято с шиком, как сейчас модно всё снимать: от окорочков на веревочке, до фашистов на митинге.
Весь этот пейзажный гламур эмпирическую красоту пытается представить как идеал. Это не только неправильно, но и опасно. «Как возрадовался – так и передал» ― Вот, возрадовался – передал. Потребление красоты и радости. Чем это отличается от любого другого потребления? Неужели никто не может снять так: «возрыдала душе моя – передал»? Так-то церковнее будет.
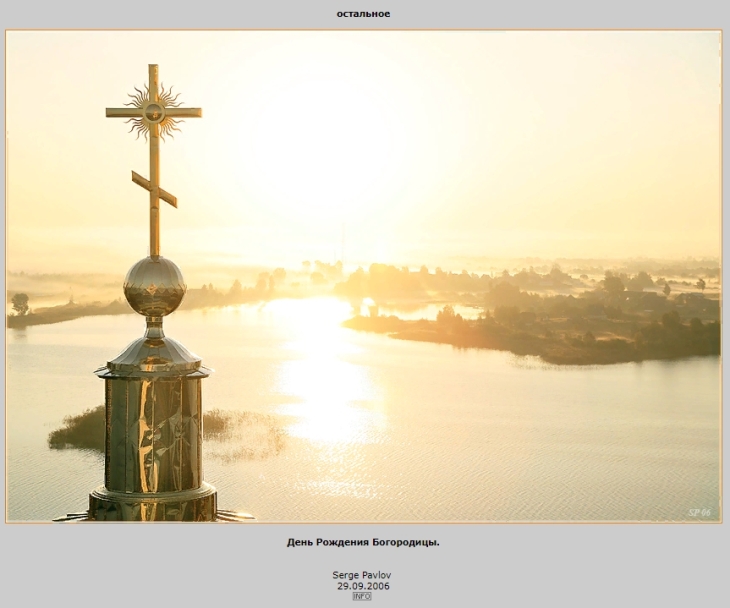
Колосов не лазал по колокольням в поисках коробочно-красивых видов. Он просто был паломником, участником ежегодного крестного хода на реку Великую. Снимал там 15 лет, нажимая на кнопку, когда внутреннее чувство подсказывало: «только сейчас». Поэтому получилось, что его фотографии – как бы взгляд изнутри. На пленке проявилось то, что хотело проявиться, что хотело остаться в будущем. Красота – не вещь, которую можно снять, когда хочешь и как хочешь. Красота – отношение между человеком и миром. В работах Колосова это отношение видно. Здесь же предлагается универсальная упаковка для красоты: с таким же гламурным блеском снималась бы мечеть, пантеон и что угодно другое. Поэтому позиция автора (и зрителя, естественно) равнодушно-отстраненная: он – потребитель красоты. Вообще, гламур – взгляд потребителей прекрасного, так сказать, взгляд отпускника-туриста, чуждого происходящему, не живущего этой жизнью.
За всеми вашими поездками по заброшенным и восстанавливаемым обителям вы никак не разглядите главного, что Церковь – это тело Христово, живой организм, – а не архитектурная форма; горение верующих сердец, – а не блеск куполов. А Колосов – увидел и передал зрителям. Вот в двух словах и вся разница.
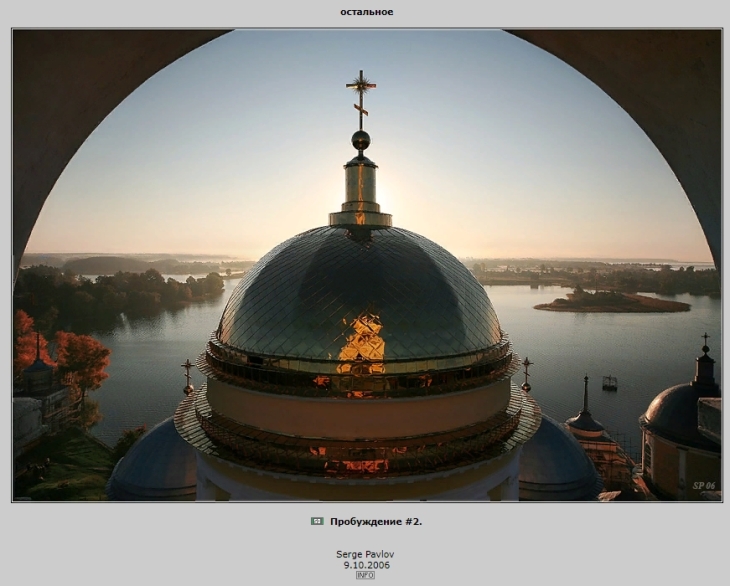
Сейчас все классики, все гении, все творцы, – потому что ныне эпоха гламура: между идеалом и его эмпирическим воплощением отсутствует дистанция. Это страшно. Гламур пытается выдать эмпирически конкретное воплощение красоты за абсолютный идеал. Такого в истории искусства еще не было. Всегда, во все эпохи, чувствовали, что идеал на земле недостижим, к нему можно только приближаться. Считалось, что есть некая идеальная сфера, которую искусство отражает. Гламур эту идеальность уничтожает. А для того, чтобы «гламурные (по-сути только эмпирические) идеалы» могли сменять друг друга со скоростью изменения моды, зрителю необходимо научиться все, что он видит вокруг, называть «шедевром», «гением», «самим совершенством». Это порождает вал восторгов по любому поводу, которые даже здесь – на лайне – заметен.
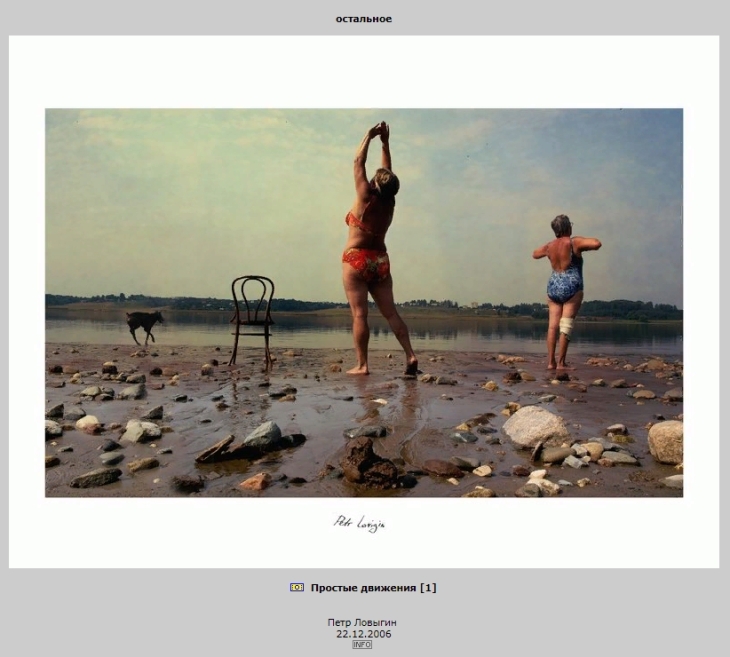
Я думаю, что фабриками, которые в настоящее время тиражируют визуальные клише, являются с одной стороны кино, с другой – всякие фотосайты и журнальная реклама. Живопись и собственно творческая фотография в меньшей степени вносят свой вклад в шаблонность зрения, просто потому, что малоизвестны широкому зрителю. Интересно, что фотографы, как правило, не пытаются преодолеть расхожие штампы, а наоборот, слепо им следуют под аплодисменты зашоренных зрителей. Я ещё понимаю профессиональных фотографов, вынужденных волей-неволей производить то, что гарантированно потребляется (т.е. пошло-банальные штампы). Но вы-то, господа любители, чего застряли на нуле? Тяжелы гири шаблона?
Эдуард Чередник: Телевизионные штампы – штампы крупногабаритные, метаструктурные, надсистемные. От них довольно легко уйти при желании. Труднее (и практически невозможно) уйти от системных штампов, т.е. от штампов накладываемых самой структурой языка, от самого языка, от попыток из языковых кубиков – бестелесной взаимосвязанной эрзац-сущности – сложить бесконечность. Язык – суть цифра.
Чтобы учиться дальше надо найти мужество отказываться от того, что накоплено. То есть удалить то, что лежит в «избранном».
Погружение // Аромат идиотизма и бреда
Помню на заседании клуба Новатор какая-то дама описывала пейзаж Култышкина: «я вхожу в фотографию, как в дверь, бегаю по лужайке, мне хорошо, какие ароматы вокруг!». Аромат, от ее выступления, конечно был: идиотизма и бреда. Когда человек подменяет анализ произведения описанием своих субъективный ощущений, это бывает забавно.
«Это карточка о моменте жизни, живом, существовавшем когда-то, и карточка эта возвращает нас в него. Она движется, живет, персонажи на ней живые, чувствуете? Их позы, фазы движения, руки, взгляды – все взаимодействует, общается, они как будто перед нашими глазами идут в реальности… Неужели этого никто не видит?!» ― Этот комментарий – пример нехудожественного подхода. Так способны видеть все. Не следует думать, что я будто бы считаю нехудожественный взгляд недопустимым или неправильным. Примитивным – да, считаю.
Что касается «многогранности трактовки» и глубины «истории». Пожалуйста, оставьте обсуждение подобных вопросов экзальтированным сотрудникам Третьяковки и профессорам советского партийного искусствоведения, – пусть описывают свои ощущения от увиденного. Такие возвышенные комментарии интересны только родственникам их авторов, потому что рассказывают о зрителе, а не о картинке.
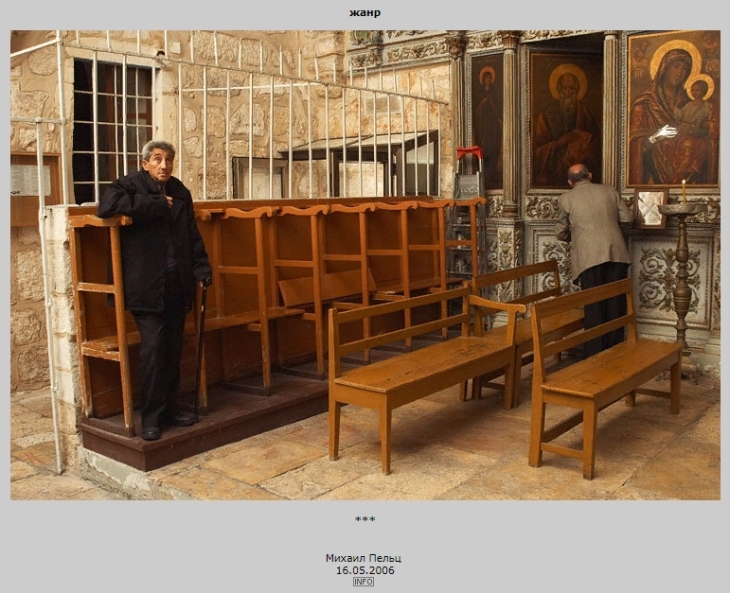
Есть два зрительских типа восприятия фотографий. Первый – назовем его «сферический» – погружается в реальность с целью понять её фактологическую составляющую, и окружить видимый на фотографии срез реальности совокупностью отношений с тем, что осталось за кадром и вне запечатленного момента времени. Это выстраивание жизненной сферы вокруг изображения как эмбриона. Строго говоря, без сопровождающей снимок истории или комментария фотографа выстроить сферу невозможно. Но есть любители спроецировать свою психику на увиденное и примыслить что-то свое из личного житейского опыта. Чаще всего именно такого рода комментарии и встречаются на лайне. Это – «отсебятина».

Второй тип восприятия – «художественный» или «поэтический» – нацелен на экспликацию мифа из фотографии. В данной фотографии есть пластические моменты, помогающие связать изображенное в новую историю – миф. Именно: сближение двух геом. линий – эллипсов («корыто» и шина), тональное сближение спины мальчика со стойкой борта судна, параллельность линии руки мальчика опоры борта и сходство белых зон киля судна и «корыта». Эти отношения, принадлежащие не реальности, но изобразительному языку фотографии, конституируют такую связь между мальчиком-инвалидом и мертвой техникой, которая и вызывает у меня чувство грусти и безысходности ( – а вовсе не набивший оскомину сюжет с нищим инвалидом).
Примирить «сферическое» и «художественное» видение невозможно. Это разные модусы бытия зрителя, разные типы восприятия. И если «сферическое» восприятие является атрибутом любого субъекта социума, то второе – «художественное» восприятие не природно, а приобретается культурным воспитанием и, видимо, не всем зрителям знакомо.

Эдуард Чередник: Языковая группа альфа устанавливает тождественность между изображаемым и изображением. Это первая и единственная операция над изображением происходящая в этой языковой группе. Идентифицировав объекты и субъекты на изображении и установив полную тождественность между изображением и изображаемым картинка выполняет в дальнейшем референтную, вспомогательную роль («имя прилагательное») к объектам и событиям имеющим место в «реальности» (ментальным концепциям).
Таким образом, в этой языковой группе происходит полная перекодировка изображения в «реальность». Субъекты и объекты этой «реальности» наделяются свойствами и характеристиками конкретных живых существ и предметов в некоторой известной обстановке (недостающие детали даются в названии и в сопровождающей записке).
С этого момента становится возможным использование естественного языка в суждениях и дальнейшая речь «об изображении» ведется «как будто» о живых существах, конкретных предметах, их отношениях и состояниях. Участнику альфа-коммуникации становится «все ясно», при помощи изображения у него создалась модель реальности и все дальнейшие операции него будут происходить с его моделью.

Отношение к знаку как к предмету или явлению им обозначенному является очень древним. Любой, кто изучал историю древнего мира сможет припомнить, что первобытные люди устраивали различные пляски перед предметами и изображениями, наделенными желаемыми свойствами. На некоторое время они «забывали» об отличиях между изображением и изображаемым и воспринимали изображение за изображаемое. Так что, альфа-язык с его единственным генеративным грамматическим правилом имеет очень глубокие генетические корни.
Естественной границей языка этой группы является невозможность установления однозначного знака равенства, когда какая-то часть изображения не поддается однозначной идентификации. Тогда, как правило, начинаются фантазии, которые заканчиваются тем же – установлением знака равенства между неидентифицируемой частью изображения и фантазией. Дальнейшие языковые операции производятся над фантазией. Реакция может быть негативной – «бред какой-то».
Чем точней можно идентифицировать объект и его состояние на изображении, тем лучше. Этим объясняется бесконечная борьба технологических фетишистов «за качество» изображения (чтобы ничто не нарушало иллюзию действительности). Ведь любой, даже малейший шум, любая соринка на поверхности изображения, неровность линии горизонта или перспективы препятствует созданию полноценной иллюзии реальности и вызывает серьезное отторжение в этой языковой группе.

Цивилизация воспитала поколения «серьезных» людей, которые отказываются воспринимать недостаточно «качественное» изображение как реальность. Именно эти люди увлечены также производством бесконечных, противоречащих друг другу бессмысленных «правил» – «блик на губе это плохо», «пальцы отрезаны», «основной объект не там, где нужно» и т.д.
Среди альфа-фотографов Владимир превосходный автор, он умело решает свои задачи, находит темы. Людям, использующим альфа-язык в фотографии, действительно есть чему поучится у него.
Как язык альфа, действительно, очень прост для изучения. Но сложности в работе с альфа как раз и вызваны этой простотой. Кроме требования к качественной иллюзии, там просто нет никаких других визуальных критериев отбора! Но есть другие, не визуальные. Какие они и сколько их – никто точно не знает, это неопределенное множество, скажем так, духовных факторов, которые как-то связывают зрителя и сюжет, распознанный им на альфа-фотографии. Зритель обогащает этот сюжет своими домыслами и ощущениями или отторгает его, а вместе с ним и фотографию.
Альфа-автор должен чутко работать с темой, с сюжетом, с техникой подачи материала зрителю и т.д. и т.п. Это совсем не просто, как может показаться на первый взгляд. Умение хорошо работать с иллюзией требует большого мастерства. Несомненно, такие фотографии имеют определенные, наверняка, какие-то неоспоримо полезные социальные свойства. Возможно, они помогают воспитывать граждан, а также проделывать с ними что-нибудь еще. Однако было бы ошибкой считать, что такие фотографии обязательно имеют какое-то особенное, привилегированное отношение к визуальному искусству. Визуальное искусство, к сожалению или к счастью, оперирует визуальными, а не духовными средствами выражения.

Но есть и другие визуальные языки, которые устроены совершенно по-другому. В этих языках фотографии Владимира, как правило, лишены визуальной семантики (или смысла, если загрубить формулировку). Это не хорошо и не плохо. Это просто данность. Никакой метафизики и этим языкам тоже нужно долго учиться. У них своя история и свои герои).
Язык «бета» является полной противоположностью языка альфа, это формальный язык изображения. В отличие от языка альфа, ему присуще нулевое изображаемое, в нем существуют только изображение и плоскость, в которой это изображение находится. Плоскость (или регулярное поле фотографии, как его иногда называют) и изображение на ней взаимодействуют друг с другом определенным образом.
Природа этих взаимодействий обусловлена спецификой глубинных процессов восприятия, едиными для всего рода человеческого. Иными словами, эти взаимодействия обусловлены единой логикой восприятия человека. Эволюция бета-языка позволяет логику восприятия разделить на врожденную и приобретенную (об этом нужно отдельно). Так или иначе, в бета-языке эта единая управляющая логика и служит порождающей грамматикой этого языка (для упрощения – генеративная грамматика в понимании Н.Хомского).

Бета-язык обладает единичным алфавитом, который состоит из одной единственной «буквы» – точки. С помощью точки, её свойств и операций над ней можно построить любую «синтагму», а из них – «слово» визуального языка, т.е. создать упорядоченную совокупность «букв» визуального алфавита. Из точки можно образовать линию, из линии – поверхность, из поверхности – плоскость. Рождение градиента и фактуры оставим студентам в качестве несложной домашней работы.
Правила образования «слов» и их последующих взаимодействий определяются порождающей грамматикой языка (т.е. единой управляющей логикой восприятия человека в этом случае). Например, порождающая грамматика бета-языка позволяет воспринимать линию, окружность и т.д. как единый объект. Дальнейшие операции с изображением производятся над линией, окружностью и прочими паттернами, рожденными на их основе. Само изображение превращается в референт, служит в качестве «имени прилагательного» (подобно тому, как это происходит в языке альфа).
Таким образом, в бета-языке происходит перекодировка изображения в различные визуально-логические структуры, визуально – т.е. установление паттернов внутри изображения и логические – установление связей между паттернами (регулярное поле изображения – также один из паттернов). Семантика бета-языка («смысл» бета-языка) – это установление иерархических отношений-связей как между паттернами, своего рода «прочтение» изображения.

Визуальные формальные языки сопутствовали нам на протяжении всего становления человечества. Например, следы формальных языков также можно найти и в древнейшей истории цивилизации, скажем, в сохранилось масса свидетельств поклонения людей совершенству многих формальных объектов, наделения их всевозможными сверхъестественными качествами и т.д. Кстати, все современные алфавиты являются частным случаем бета-языка (это к беседе про приобретенную логику восприятия и ее влиянии на врожденную). Вместе с тем, бета-язык развивался и развивается как самостоятельный визуальный художественный язык, со своей собственной иерархией отношений между элементами и структурами. Он ни в чем не уступает языку альфа (разве что в понимании широкими кругами зрителей).
Повторюсь еще раз, чтобы быть предельно понятным. Смысл бета-языка не имеет ничего общего со смыслом в нашем бытовом понимании. Фраза «квадрат а плюс квадрат б равняется квадрату с» не несет бытового смысла, оно лишь раскрывает связь между какими-то паттернами, в данном случае отношения между сторонами прямоугольного треугольника. Это и есть единственный «смысл» формального языка – интерпретация визуальных паттернов, нахождение связей между ними и установление иерархии этих связей. Художественность в бета-языке рождается в случае, когда интерпретация визуальных паттернов и установление иерархии этих связей позволяет выявить новое качество произведения, выходящее за рамки средств выражения этого языка. Лауреат Пулитцеровский премии 1980 года Дуглас Хофштадтер (сын лауреата Нобелевской премии по физике Роберта Хофштадтера) называл это явление «странной петлей».
«Понятие странных петель является ключом для разгадки тайны, которую мы, сознательные существа, называем существованием или сознанием». И далее: «геделевская странная петля, возникающая в формальных математических системах (т.е. наборе правил для получения бесконечной серии математических истин, путем исключительно механического преобразования символов, не уделяя ни малейшего внимания их смыслу или идеям, скрытым в объектах, над которыми производятся манипуляции) это петля, которая позволяет такого рода системе “осознать себя”, рассуждать о самой себе, приобрести “самосознание”. В некотором смысле не будет преувеличением утверждать что, благодаря наличию такой петли, формальная система становится личностью».
 Анна Войтенко «Стокгольм» (2008)
Анна Войтенко «Стокгольм» (2008)Естественной границей бета-языка является как раз то, что ему присуще нулевое изображаемое. Преодолеть этот барьер помогает язык гамма, который является интегративным языком, т.е. языком, который сочетает в себе элементы альфа и бета-языков.
Приведу аналогичный пример. Корректор в типографии должен просматривать текст в очень специальном режиме: вчитываться в каждую букву, запятую. Это специфический модус чтения, возможно, не каждому доступный. Но неверно утверждать, что читатели делятся на две категории: корректоры и «простые». Корректор может читать в «художественном» режиме, полностью отдаваясь повествованию.
Анализ // Самые тупые люди на свете
Для того, чтобы объяснить фото, нужно свое восприятие, свои ощущения не только переживать, но параллельно сделать их предметом анализа, как бы положить перед собой.
Никогда не нужно объяснять, почему фотография бездарна или почему зритель не наблюдает авторской интенции. Нужно говорить о выдающихся работах, а не о проходных фотках, коих миллионы. Вот те зрители, которые положительно оценивают эту работу могли бы высказаться, что именно здесь ценно. А писать «замечательно», не умея обосновать, что тут замечательно,— это скудоумие.
Не помню кто, говорил, что фотографы – «самые тупые люди на свете». И ведь действительно, «немота» многих мэтров, неумение внятно объяснить, что же они делают, зачем нажали на спуск, сильно настораживает. В художественной среде – музыкантов, художников, поэтов – такого топорного невежества нет.
Вообще, читая лайновские обсуждения, задумываюсь: почему фотографией в 90% случаев занимаются не просто антиинтеллектуалы, а люди ненавидящие мысль и специальные знания? Почему 99% фотографов ничего не могут сказать по поводу конкретной фотографии, – ни своей собственной, ни чужой? Почему слышно одно мычание: «нра–а–а–а–а»? Отчего все разговоры о фото мгновенно переходят в выяснение отношений? Или совсем просто: почему интернетовский мирок фотографов – это баня с пауками?
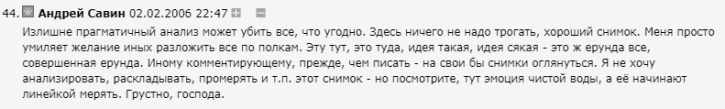
«Прежде я пребывал в заблуждении и думал, что фотограф это тот, кто умеет фотографировать. Оказывается, нет. Фотограф – это тот, кто умеет поговорить о фотографии» ― Действительно, вы пребывали в наивном заблуждении. Анри Картье-Брессон считал себя любителем в фотографии (он ведь не такой «профи» как вы, хотя его фотографии почему-то интереснее ваших). Художественные критики Виктор и Маргарита Тупицины, художник Илья Кабаков не раз подчеркивали, что их друг Боря Михайлов не умеет фотографировать. Совсем не умеет. И это правда. Однако неумение фотографировать не помешало Борису Михайлову оказать исключительное влияние на современное искусство фотографии, отмеченное присуждением ему премии Hasselblad и других престижных премий. А то, что вы считаете «умением фотографировать» – это и есть удел любительской дилетантской фотографии.
А вот «умение поговорить», в адрес которого вы издаете шипение, как пробитый изолятор, – характерная черта современного искусства. Почитайте хотя бы Илью Кабакова. И фотографии без «разговоров» больше никому не нужны, – тем паче жалкие фотографические «опусы» некоторых горе-профессионалов… Действительно, вы пребывали в наивном заблуждении о важности «профессионализма», но мне кажется, что вы еще долго будете пребывать в этом заблуждении.
Вы сами должны объяснять, почему та ваша фотография – современное искусство. Или не Вы, а кто-то из думающих зрителей должен сказать что-то весомое о вашей работе. Но доказывать что мышь – не верблюд никто не станет, ибо это глупо. Раскройте глаза: каждый год делаются миллиарды снимков, а таких фотографов как Вы – сотни миллионов. Вы думаете, кто-то будет заниматься Вашим творчеством? Что-то выискивать, объяснять, доказывать?.. Нет, «молчаливый ремесленник» теперь нафиг никому не нужен. Вы бы по поводу своей фотографии что-нибудь нетривиальное сказали: трудно ли такое снять, зачем мусор пятен, почему выбрали именно такой момент, были ли дубли, критерий отбора и т.д?
«Однако кто поручится, что здесь опять-таки нет чего-то скрытого, зыбкого и двусмысленного?» ― Все очень просто. Кто-то должен объяснить, чем примечателен данный снимок, что в нем интересно?
«Нра/ненра» теперь никого не устраивает. В мире 16 (или 256) миллиардов фотографий, которые одним зрителям нравятся, а другим – нет. Но сказать что-то нетривиальное можно об очень небольшом числе снимков. Наверное, таких тысяча-другая, или 64 тысячи, или вообще 512 штук. Точно никто не считал. Наступило время фотографий, о которых можно сказать: «вот, здесь так устроено…». Примерно об этом и Борис Гройс пишет: время искусства, рассчитанного на эмоциональный отклик, закончилось, – произведение, которой никто не может объяснить, никому не нужно (цит. по памяти. Может, это и не он сказал, а я). Зрителя так долго и усердно вскармливали картинками, которые ему должны будто бы понравится, что он потерял ориентацию в пространстве культуры. «Ну, нравится эта, и та – нравится, и…». В какой-то момент зритель понял, что тебя считают идиотом, и спросил: почему?

Анализ фотографии – это не экспликация пробуждаемых ею у зрителя чувств или объяснение ее смысла (последний у каждого зрителя будет свой), а выявление структурных условий возникновения хоть какого-то смысла, или образа, или чувства. Короче: что в этой фотографии заставляет Вас видеть в двух разных людях две ипостаси одного человека? Считаете ли Вы, что как должны видеть и другие зрители?
По Виддему Флюссеру различие между фотографом-профессионалом (просто «фотографом») и фотографом-любителем проходит именно по острию фотодискурса. Фотограф умеет расшифровать фотографии, умеет разговаривать о фотографии, а любитель – нет. Флюссер писал в доинтернетую эпоху, но упоминал клубы: «Клубы фотолюбителей – это места опьянения от структурной сложности аппарата, места для галлюционирования, постиндустриальные опиумные логова». Вообще, Флюссер пишет о том, что изменялось в восприятии фотографии, как менялась ее роль в обществе лет за 50. Думаю, пишет правильно. Пересказывать не буду. Скорее, за последние годы ситуация стала только хуже: разговор о фото стал просто невозможен. Особенно в и-нете с его заботливо-демократическим отношением ко всяким дебилам, из кожи лезущим показать свою дурость.
Искусствоведческий анализ произведения – это выявление условий возникновения смысла произведения, а не описание смысла. Хотя смысл возникает у зрителя в акте восприятия, но условия возникновения смысла нужно искать в самом произведении, в его структуре. А где же ещё? Конечно, может быть так. Зритель говорит: «мне нравится фотография, потому что кресла прикольные». «Хорошо», – скажу такому зрителю, – «и впредь суди только о креслах, а не о художественных достоинствах карточки. Не суй свой нос, куда не следует. Свободен!»
Постоянно встречаются высказывания типа «я снимаю уже 20–30–50 лет и обходился безо всякой теории, главное – чтобы фотография зацепила». Не хочу давать ссылку, не далее, чем вчера или позавчера читал подобное. Причем, любые попытки анализа фотографий встречаются этими авторами в штыки, прямо как личное оскорбление. Казалось бы, пройди мимо, – не твоего ума это дело! Нет, обязательно нужно отметиться, так сказать, засвидетельствовать свою интеллектуальную нищету.
Во-первых, глуп или умен фотограф обычно ясно по уровню сложности его работ. То, что фотограф отбирает для экспонирования зрителю, – зеркало его интеллекта. Конечно, не только интеллекта, но и эстетического чутья, культурного уровня, образованности и удачливости. Во-вторых, ум фотографа проявляется в том, как он ищет, как формулирует мысли, – в том, есть ли вообще у него мысли. Это касается интернета, сайтов с обсуждениями работ. Заметил, что авторы, перешедшие на нечеловеческие «нра», плюсики, «555» быстро скатились на столь же тривиальный уровень фототворчества. Язык человека определяет то, что человек замечает, что может понять и, следовательно, показать зрителю.

Когда фотограф говорит о фотографии, особенно о своем творчестве, как правило выходит скучно и тривиально. Исключения есть, но редки. Достаточно почитать Хилла и Купера. Тут есть какой-то суеверный страх перед рефлексией, разрушающей рефлексируемую деятельность.
Вообще, серьезный разговор о фотографии – это всегда философия, а на уровне «бытовых понятий» и заимствованных из живописи концептов к этой теме не подойти.
Талант философа заключается в том, чтобы анализируя собственные рассуждения и собственное восприятие, отделить сущностное от субъективного. Ролан Барт и Вальтер Беньямин с этой задачей справились,– их работы привлекают мыслителей и по сей день. То есть, эти исследователи проникли в сферу сущностного фотографии и сказали нечто важное и существенное для всех. Если же исходить из личной субъективности, которая «автору лично дороже», выводы тоже будут «лично дорогими», с ударением на «лично». Другими словами, такие рассуждения никому больше, кроме автора и его друзей не интересны, поскольку свидетельствуют об индивидуальном автора. И надо сказать, фотограф или живописец не имеет ни каких преимуществ перед философом-феноменологом.
Жиль Делёз смог придумать систему понятий – «концептов», специфических именно для кино, в рамках которой успешно проанализировал конкретные фильмы и вообще фильмическую проблематику. Причем, это не технические понятия (тревеллинг, ракурс, раккорд, ГРИП и т.п.), это именно философские концепты. В книге «Переговоры» он писал: «Кинематографическая критика встречает на своем пути сразу два подводных камня: надо избежать и простого описания фильмов и применения концептов, пришедших извне. Задача критики состоит в том, чтобы сформировать концепты, которые не были бы очевидным образом “даны” в фильме и которые вместе с тем подходили бы только к нино, к такому-то роду фильмов…» Эти слова Делёза полностью переносятся на фотографию и любое другое художественное направление. Это разговор о фотографии «изнутри» её проблем, а не «снаружи» мировоззрения.
Задача критика не объяснять, хороша или плоха работа, а указать на ее место в культуре. Если ее место — маргиналии, то собственно, говорить критику не о чем. Таких работ миллионы. Критик должен отмечать только ценное. Объяснять, чем плоха работа, – в этом роль учителя, а не критика.
Смысл // Борьба с ложной подлинностью
Все с чем сталкивается человек, им проверяется на осмысленность. Смысл – всегда структура, что убедительно показали философы. Поэтому не удивительно, что и поиск смысла фотографии начинается с экспликации структуры снимка. Если кто-то выделяет другую структуру изображения, то смысл предстанет в другом ракурсе, – это возможно. Прежде, чем затевается поиск смысла вещи, она должна коснуться человека, чем-то привлечь, потянуть к себе. Не один искусствовед не станет изучать то, что бессмысленно и неинтересно. Так что выдающиеся произведения обнаруживаются до всякого анализа их смысла. Это парадокс, но это так. Почему – никто не знает.

Можно ли выразить смысл стихотворения, минуя его структуру? Можно ли сказать, что таком-то смыслу более всего подходит определенная форма? И то и другое – абсурдно: художественный смысл – это такой смысл, который не существует вне своей художественной формы. Об этом хорошо написал Ю.Лотман: «Дуализм формы и содержания должен быть заменен понятием идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры». Поиски парных элементах, диагоналей, линий золотого сечения и т.п. нужно признать обоснованными только в том случае, если найденные компоненты и закономерности держат идею снимка как кости человека несут его плоть. Отдели кости от плоти – и нет человека. То есть, завершением структурного анализа фотографии должен быть строгий отбор существенных компонент и обоснование, что эти элементы суть смысловые.
В любом изображении зритель пытается выделить «осмысленные» пятна, объединить их так, чтобы составились образы объектов, точнее – объектов, поименованных словами. Смысл имеет то, что можно назвать. Следовательно, зрение обусловлено разделяющей функцией языка, и носители разных языков видят по-разному. Первобытный человек, например, считал, что корни растения и «вершки» – это разные объекты, разные сущности. Поэтому там, где современный человек видит один предмет, дикарь видит два. Идея о том, что язык делит мир на части была высказана в середине 1930-х г. американским этнолингвистом Б.-Л. Уорфом и русским философом Леонидом Липавским. Мысль следующая: человек видит мир не таким, как он есть, а таким, каким ему это видение диктует язык и культура (обучение, воспитание и т.д.).

Эдуард Чередник: Знак есть то, что мы принимаем в качестве чего-то другого. Вот ты увидел на картинке какую-то логику, связь между элементами – бац, это уже sign-production, выражаясь языком Эко. А кто-то увидел, но не признал эту связь в качестве таковой – значит, никакого sign-production нет.
Семиотический разбор – это царство интерпретатора, он сам решает, что для него знак, а что нет, и как знаки связаны между собой. Исполнительское мастерство зрителя имеет огромное значение в фотографии и чем больше оттенков насмотренный зритель способен воспринимать как неслучайные, тем интереснее его взгляд на фотографию.
Формально говоря, любое описание фотографии, когда зритель интерпретирует изображение при помощи языка или картинок – есть семиотический анализ. Я описывал три группы зрителей – альфа, бета, гамма и приводил основные различия между ними с точки зрения семиотики, т.е., с точки sign-production. Семиотике по-барабану, кто из них прав, а кто нет. Мне лично интересны интерпретации бета и гамма, но это мои личные предпочтения.
«Мне кажется, что фотография получается настоящей Фотографией, если визуальный образ переходит в смысловой…» — Я согласен с этим тезисом, правда, с таким уточнением: «смысловой» – не тождественно «словесный». «Проговорить» худ. фотографию, изложить ее содержание на вербальном уровне невозможно: любая попытка пересказа обречена на провал, ибо тот смысл, который заключен в художественном произведении, не выразить никакими иными средствами, кроме тех, которые были использованы автором.
В языке есть два слова для обозначения стакана и молока, но нет «стакана-молока» как обозначения единого понятия. А в «стакане-молоке» нет молока как независимой части: оно растечется без стакана. Подобно тому художественный смысл сдерживается художественной формой, вне этой формы смысл вообще не актуализируется.
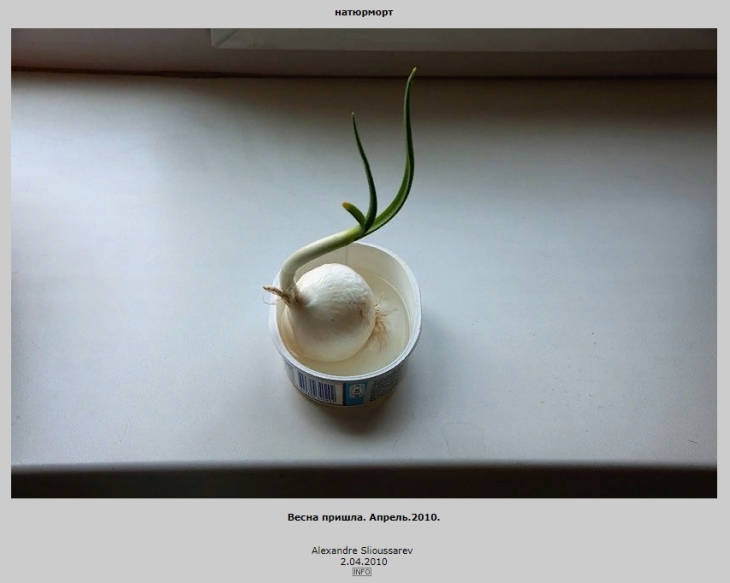
Если словарного значения слов не достаточно, используют метафоры. «Душа пленки», «цифра не дышит» – это метафоры, призванные отразить то, для чего в языке еще нет слов. Метафоры не определяют вещь, они выражают отношение человека к вещи.
«На мой взгляд, задача фотографа состоит в том, чтобы уметь видеть в окружающем связи между предметами и грамотно их запечатлевать» — Я бы так сказал: «задача фотографа состоит в том, чтобы уметь видеть в окружающем бытовые связи между предметами и полностью их уничтожить на снимке, грамотно подменив самыми неожиданными сближениями». То есть нужно уклониться от обыденного употребления образов (то, что в античной риторике называлось aliena verba).

«Объяснение» снимка, завершающееся выяснением лишь геометрических закономерностей, подобно школьному анализу стихотворного текста, ограничивающемуся подсчетом ритма, перечислением рифм и т.п. Здесь – хорей, там – анапест. Ну, и что дальше? – хочется спросить.
Ю.М.Лотман: «Возьмем, к примеру, художественную и нехудожественную фотографии. На обеих – изображение обнаженного тела. На нехудожественной фотографии обнаженная женщина изображает обнаженную женщину и больше ничего. Нет смысла этого обнажения. На художественной фотографии (или картине) обнаженная женщина может изображать: красоту, демоническую тайну, изящество, одиночество, преступление, разврат… Может изображать разные эпохи, порождать культурные смыслы, поскольку она является знаком…». К сказанному Лотманом я бы добавил, что «художественное» и «нехудожественное» – эпитеты, характеризующие в первую очередь зрительскую установку, а не свойства, имманентные самому произведению.
Ю.М.Лотман: «Представим себе фразу, значение слов которой нам непонятно, но грамматическая структура, выражающая отношения между ними, известна. В этом случае слова будут казаться полными скрытого смысла, загадочными».

«Карточка понравилась. Своей совмещенной несовместимостью. Этой дряблой тетенькой с её дурацким купальником, этим мирным пляжем и этим порождением человеческого гения, низколетящим монстром» ― это смысловой интерес к картинке, а не пластический. Допускаю, что еще есть немало зрителей, которые, глядя на картинку, сочленяют в уме понятия. Видеть рассудком просто и привычно. Мы так ориентируемся в быту, такое зрение позволяет выжить. Но при таком подходе, как ни снимай кадр, – всё здорово. Возьмем дряблое яблоко и стальной элегантный утюг. Снимем – и получим совмещение несовместимостей, мирный плод древа и порождение человеческого гения… Я конечно извиняюсь, но это имеет очень косвенное отношение к визуальному искусству фотографии.
Основная черта художественного, характерный признак – метафоричность. Или, более обще, – использование тропов. Без метафоры изображенные предметы остаются теми же самыми, что в быту. Обогащения смысла не происходит.
Хосе Ортега-и-Гассет: «Метафора – это действие ума, с чьей помощью мы постигаем то, что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного мы можем мысленно коснуться отдаленного и недосягаемого. Я не хочу сказать, будто благодаря ей преодолеваются границы мышления. Она всего лишь обеспечивает практический доступ к тому, что брезжит на пределе достижимого. Без нее на горизонте сознания оставалась бы невозделанная область, в принципе входящая в юрисдикцию разума, но на самом деле безвестная и неприрученная… Мало кто в должной мере понимает, что метафора – это истина, проникновение в реальность. И, стало быть, поэзия есть, среди прочего, исследование: она вырабатывает столь же положительные знания, как наука».
Р.Барт убедительно показал, что хокку – не способ лаконично выразить некоторое содержание, а инструмент (в философии Дзен) избавления от смысла, «тормоз» машины словесного мышления. Хокку указывает понятийному мышлению предел: хокку фиксирует момент, когда мышление прерывается. (Так сами японцы понимают, что такое хокку.) Вот, и я давно подозреваю, что фотография – такая же заглушка на логическую машину сознания (европейца), ежесекундно перемалывающую всё увиденное в слова, предложения, тексты. Если некто, глядя на снимок, тотчас начинает его интерпретировать, – или фоторабота не состоялась, или такой зритель – не зритель, а читатель. В фотографии должно быть что-то останавливающее мышление.

Собственно, структурность как художественный принцип, позволяющий проникнуть за пределы вещей, был провозглашен Малевичем. «Беспредметность – единственная человеческая сущность действия, освобождающая от смысла практичности предмета как ложной подлинности». Собственно, «беспредметность» в живописи – форсированная структурность (+ отказ от объемности). В фотографии путь Малевича невозможен, но возможно то, что я делаю: это борьба с ложной подлинностью.
Для творчества нужно слышать, чувствовать и видеть форму, отрешившись от пошлого смысла вещей и событий. Это важно и для фотографа. А если кто-то спрашивает: «что происходит, что изображено, и о чем эта фотография?», то этот человек не фотограф и вряд ли когда-нибудь станет фотографом.
Интенция // Перпендикулярность ожиданиям
Понимаете, в чем дело: большинство фотографий просто невозможно комментировать. Это работы начинающих авторов, которые сами толком не знают, что они делают. Помните пушкинский принцип: судить автора по тем законам, которые он сам над собой установил? А если законов нет, то о чем писать критику? На мой взгляд, большинству авторов не хватает понимания, для чего они снимают. Видит фотограф что-то интересное – снимает с надеждой, что это понравится и другим.
Непосредственных снимков пруд пруди. Весь лайн завален дебильными и очень непосредственными карточками: «не подумал, щелкнул и недодумав выставил». Непосредственность – отсутствие интенции, интеллекта автора.
«Отсутствие авторского начала» относится не к процессу съемки, а к результату: зритель не наблюдает авторской интенции (это как минимум). А снимать можно как угодно, – главное отбор. «Случайный кадр» неслучайным может стать только в серии.
У меня медленный интернет, и пока фотография неспешно открывалась сверху вниз, подумал: хватит ли у автора смелости не включать людей в композицию? Нет… вот они внизу.

К сожалению, фотография – обманчивая вещь: многие зрители склонны полностью игнорировать «как», все коды относя к «что». Это приводит к тому, что люди по 40-60 лет занимаются фотографией, производя просто документальные карточки, представляющие, в лучшем случае, только исторический интерес. Художник, конечно, всегда вынужден думать о «как». Всякая художественность связана с возможностью разделения кодов произведения на «что» и «как», то есть с билингвиальностью.
Фотография – не абстрактное искусство, «чего» всегда присутствует: это есть запечатленная реальность. Вести отвлеченные разговоры о фотографии легко, поэтому предлагаю вернуться к этой конкретной фотоработе. «Чего» здесь – это парикмахер в своей мастерской среди аккуратно расставленных предметов, картин не стенах, зеркал и плиток пола. Все это немножко любопытно как этнография. Спасибо парикмахеру, спасибо и фотографу за кадр. А вот «как» снято, т.е. интенции фотографа, стремящегося проникнуть в отношения вещей и отношения человека к окружающим его вещам, я не вижу. Фотография использовалась как технический инструмент, позволяющий передать вид парикмахерской далекому зрителю. Получился кадр, не имеющий отношения к искусству фотографии. Потому, что «плохо, когда искусство становится средством изображения, а не выражения» (В.А.Фаворский).
«Главное, чтобы понимали, пусть каждый по–своему, а не равнодушно проходили мимо» ― странно радоваться непониманию. Получается, что фотография – род гастрономического блюда, а фотограф – повар, старающийся угодить хоть кому-нибудь. Одному понравится мясо, другому – подливка к нему, третьему – тарелочка, на которой подают. Но все довольны, хотя коммуникации нет. При таком подходе можно выставлять фотографии, которые автор сам не понимает и не считает интересными: в любом случае, техничная и не слишком скучная по сюжету работа кому-нибудь понравится. И это факт.
Кто такой любитель? Это фотограф, снимающий то, что ему интересно и отбирающий карточки по принципу: «это мне нравится, значит — понравится еще кому-нибудь». Фотограф (с большой буквы) начинается тогда, когда приходит понимание, что показывать нужно не то, что лично приятно, нравится, близко к сердцу, а интенциональные работы. Внутренняя интенциональность работы делает ее независимой от автора и его предпочтений, то есть превращает в произведение.
Что зритель сравнивает «подсознательно» никому не интересно и совершенно не важно для фотографа. Кто-то сравнивает крону и ствол, кто-то голубое небо и темную землю, а кто-то количество веток дерева сравнивает с числом травинок. Вопрос в том, что сравнивает сама фотография?

Малое количество слабых связей, – действительно, хорошо. Этим мне нравится ранний Картье-Брессон. Слишком сильные связи часто производят впечатление ученических упражнений. Вообще, в фотографии очень многое определяет неожиданность сближений, а не их сила или слабость. Так же и в музыке. С.Рихтер говорил: главное в исполнении – неожиданность, непредсказуемость, – движение, перпендикулярное ожиданиям. Визуальное сопоставление работает, только если оно сумасшедшее и сравнивает разноприродные сущности, а не предметы промышленного производства.
Протест // Раскрашивание гробов
Пикториализм, «припудривание», «хольгография» и т.п. сразу заявляют о себе: «вот это я». Технический прием выходит на первый план.
На мой взгляд все формы пикториализма, включая распространенное здесь на лайне (и вообще в любительских галереях) «припудривание и нарумянивание» – мертвы. Причем, последние мертвы от рождения. В принципе и хольгография жила пару лет после рождения, теперь – это мертвечина. Это все подобно раскрашиванию гробов и румянам покойника. Нет, у этого направления нет будущего. Оно тривиально по приемам и ненаблюдательно по сути. Будущее у той фотографии, которая знает, что Природа – Божье творение, а не у той, которая гнет природу под свой эстетический вкус, причем массовый вкус. Какие попытки использовать мягкорисующую оптику были удачны в последние годы? – Сара Мун, Салли Манн, Г.Колосов. Кто еще? – Аккерман? – Ну, может быть. Но все это такие штучные вещи, продолжать в том же направлении не имеет смысла: получится чистое эпигонство.
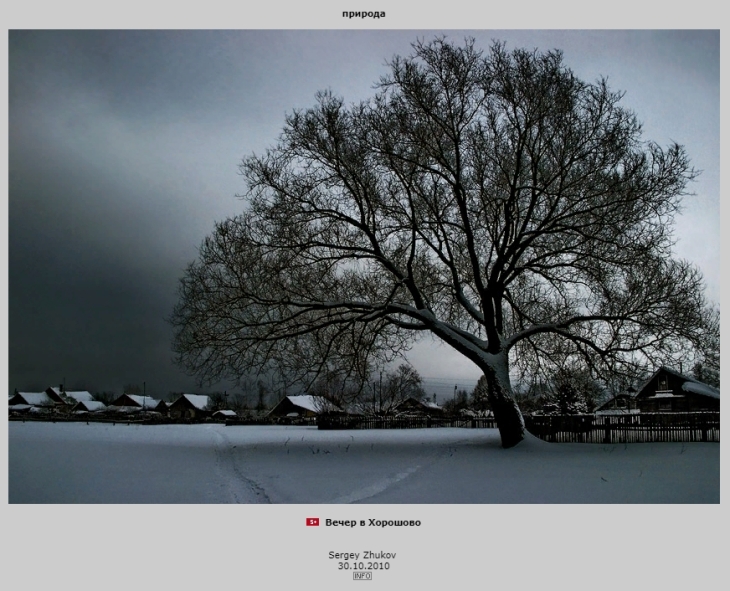
Попсовые мейнстримы: моноклёвщики, мутнохольгисты, пинхольщики, кроспроцессщики, фишайники, нарумянщики, блюрщики, икашники. Нет, дело не только в массовости. Черно–белая фотография — массовое направление, но философская фундированность этого направления не позволяет причислить чб к попсовикам-затейникам. А скажем, хольгисты не заморачиваются объяснением, зачем они снимают столь превосходной оптикой. Разговоры типа «это протест», конечно забавны, но несерьезны. Ну давайте, будем переворачивать фотографии вверх ногами: чем не протест? И что это будет новым направлением?Бодрийар довольно ясно дает понять, что такое «дрожь мира», которую следует уловить правдивой фотографии: реальность не в фокусе, а в той «неясности жеста», в следах колебаний устанавливающегося бытия. Та фотография, против которой выступает Бодрийар, механистична, не видит эти колебания, не имеет полного понимания, что такое реальность как она возникает. Далее философ пишет: «Реальность не в фокусе. Поместив мир в фокус, мы получим “объективную реальность”, являющуюся выверенной моделью репрезентации…»,– а это не то, что Бодрийар ожидает от фотографии. Наивно было бы думать, что философ призывает снимать «мутно», фокусируясь вне объектов. Он предлагает другое: искать следы неопределенности жеста,– того жеста, который и создает реальность, – а это совсем не муть на фотографиях Вараксина.
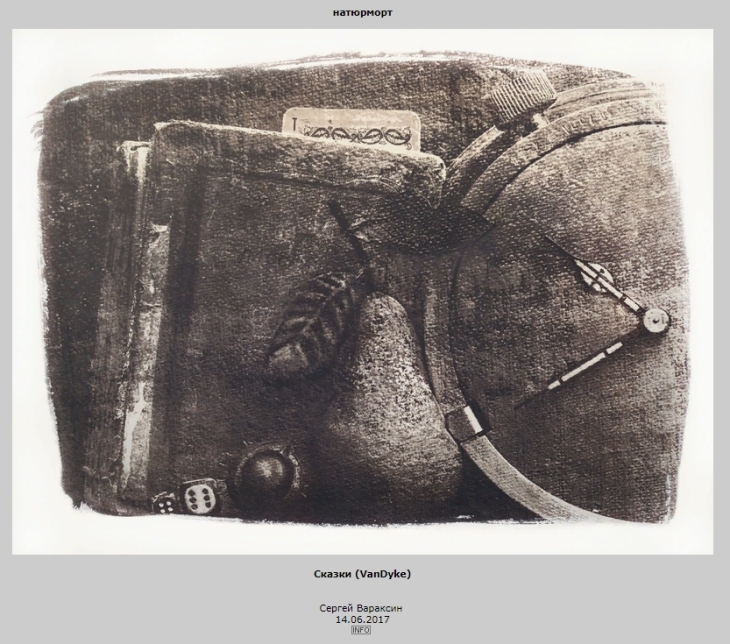
Литературщина // Фотографии для слепого
«Литературщина в фотографии» – это не попытка автора связать снимок с каким-либо литературным произведением (такую попытку надо было бы приветствовать, как и попытки связать фото с музыкой и т.п.). «Литературщина» – это совсем другое: перевес сюжета фотографии над композицией как таковой (здесь, собственно, композиция случайна, – ничего не добавляет к естественной конструкции реальности), риторичность сюжета (пересказывается словами без остатка), миметичность остановленного взгляда и т.д.

Слово не тождественно картине, и язык способен лишь наметить мотивы пейзажа, но не создает однозначного образа. «Ворон – солнца закатные лучи – иглы ели» – вот типичная «красивая литературная картинка». Но фотография с такими мотивами может состояться, а может и не состояться. Картинка превращается в фотографию, если у неё есть элемент, трансцендентный её мотивам: например, геометрия линий и пятен. Лодочка, затерявшаяся в бескрайних просторах природы, и подушка облаков, может быть, достойны стать темой стихотворения или рассказа, но сами по себе фотографии не создают.
Литература может использовать однажды найденную метафору, использовать сколь угодно долго, пока метафора окончательно не «сотрется». А фотография вынуждена каждый раз демонстрировать метафору (in praesentia), – только в этом случае изображение можно считать художественной фотографией. Как только автор снимка пытается просто заимствовать поэтические мотивы (отдает предпочтение связям in absentia), художественный эффект ослабевает или полностью теряется, т.к карточку приходится «видеть умом».
Помню как-то раз смотрел фильм о слепом фотографе, кажется, это «Доказательство» австралийца Мархауза,– весьма интересная картина, перекликающаяся с «камерой лючидой» Барта. Герой фильма – слепой фотограф – снимает, реагируя на только ему одному известные раздражители: голоса, шум, внутренние чувства. Карточки печатает в лаборатории. Поскольку он не видит, что снял, то просит знакомых посмотреть отснятое и сказать словами, что там на фото? Затем фотограф надписывает этой краткой аннотацией снимки и складывает в архив. Его пальцы прочтут и через много лет дату и текст-пояснение. Это чтение и будет его восприятием изображения. Таким образом, фотография для слепого фотографа – это то, что пересказывается словами, что кристаллизуется в тексте. А если фотографию нельзя пересказать, то её как бы вообще нет, это – «ничто». Так вот, большинство фотографий на лайне – фотографии «слепых фотографов»: они успешно пересказываются словами и в таком пересказе сохраняют должную целостность.
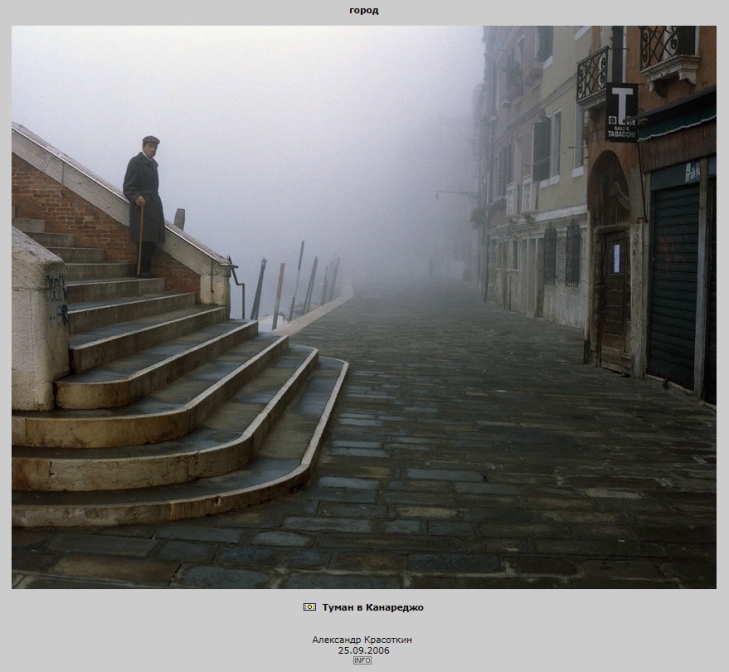
«Карточка про столбы», «карточка про Венецию»… Детский сад. Фотография, – если она действительно фотография, – не бывает «о чем-то», потому что это визуальная метафора, косвенно указующая на то, чего в мире вовсе нет, а существует только в воображении зрителя. Фотография не бывает «о чем-то», – это не рассказ и не иллюстрация к (опущенному) тексту. Фотография или состоялась, или – нет.
Здесь вообще нет сюжета, это не кино. Это случай, это реальность. Сюжет в моменте реальности возникает только в фантазиях зрителя. А каждый фантазирует как хочет или как умеет. Фотография как случай Вас не интересует. Вы вообще не понимаете фотографию, Вас интересует кадр как рамка для литературной истории. Но что возможно в кино, то невозможно в фотографии, а что составляет суть фотографии – неприемлемо в кино.
Фотография позволяет видеть вещи такими, каковы они в реальности, объектив камеры аннулирует социальную роль вещей, заставляет смотреть на вещи так, как если бы они имели имена собственные. Наше бытовое зрение очень иерархично: область зрительного восприятия поделена на зоны, имеющие неодинаковое значение. Фигуры важнее фона, движущиеся тела могут быть важнее неподвижных, но внимательно рассмотреть их мы не успеваем и т.д. Эту социальную иерархию разбивает фотографическое зрение, которое воспринимает предметы в их конкретности, делает фон не менее важным, чем «объекты». А поскольку разделение поля зрения на предметы и непредметы во многом обусловлено языком, то я и говорю, что фотография – неязыковое понимание мира. А когда карточка имеет сюжет, то на неё очень часто смотрят по-бытовому, перекладывая сюжет на язык, то есть отказываясь от преимуществ бессловесного зрения.
«Литературщина» – это кадр, выдранный и фильма. Настоящая фотография как произведение искусства ничего не рассказывает,– ее задача воздвигать свой мир. Такой кадр в кино невозможен как целое: через секунду композиция рухнет и от фотографии ничего не останется. В потоке кадров зритель не рассмотрит, не поймет, не заметит главного.
Серия фотографий и кино не имеют ничего общего. И выстраивание серий основывается на иных принципах, чем монтаж в кино. Главное различие при восприятии: зритель серии всегда может вернутся назад и посмотреть предыдущие фотографии, а движение кино неумолимо влечет зрителя вперед. Монтаж в кино основан на том, что восприятие текущего кадра накладывается на воспоминание предыдущего, а фоторяд целиком и полностью доступен зрителя в любой момент. Кроме того, серия фотографий может быть не линейной, а 2D.
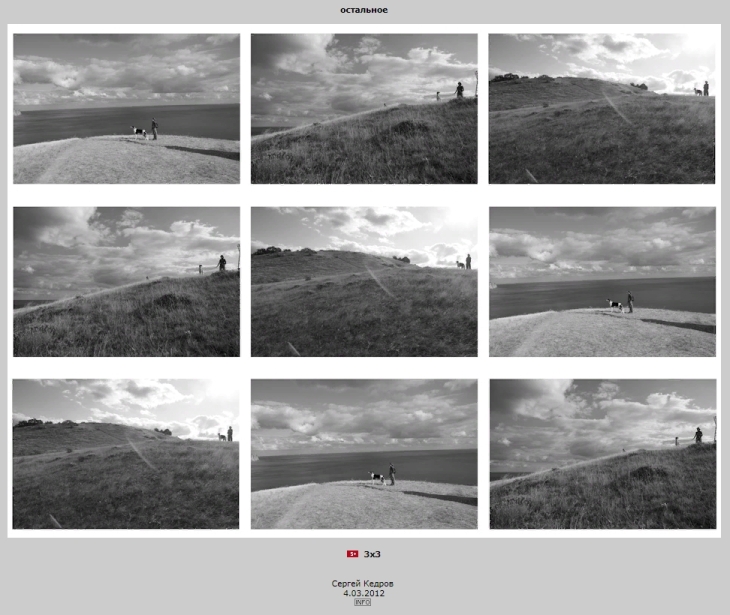
Театральность // Заигрывание со зрителем
Хорошее театральное сценическое действие всегда захватывает зрителей, – они чувствуют себя вовлеченными в театральную игру, его соглядатаями. Плохой же театр вызывает отторжение зрителя: последний не хочет участвовать в игре, осознает себя зрителем чужой игры, – игры других или игры для других. Основное свойство любой игры, – в том числе и рассматривания фотографий, – заключается в том, что игра должна захватывать зрителя, выводить его из потока реального времени. Но как только зритель фотографии осознает себя чужим в этой игре, видит, что с ним заигрывают, а не играют, – наступает отторжение и игра прекращается. Итак, разница между постановочной и непостановочной фотографией заключается не в обстоятельствах рождения кадра, а в семиотической позиции зрителя к изображенному на снимке.
Проблема в том, что некоторые спонтанные снимки зритель принимает за постановку и наоборот, постановка бывает столь гениальной, что кажется совершенно жизненной («Поцелуй» Дуано, например). Согласитесь, что зритель, как правило, не знает условий и обстоятельств съемки, поэтому судит о постановочности только исходя из самого изображения. Поэтому понятия «нарочитости» и «спонтанности», которыми оперирует зритель, имеют не реальный, а художественный смысл.

Условность языка театра (жестов, слов, действий, мимики) не осознается театральным зрителем, но при условии, что зритель играет роль театрального зрителя. Одно и то же действие воспринимается в театре и вне его по-разному. Так, театральная игра на улице воспринимается как условное действо только в ключе циркового восприятия, иначе окружающие не осознают себя участниками театра и могут подумать, что перед ними вовсе не артисты, а сумасшедшие, – настолько условен театральный язык. Фотография показывает мир как реальность здесь-сейчас, разворачивающуюся перед зрителем (это и есть условность фотографии). Поэтому откровенно театральные снимки, подобные этому, воспринимаются как документальные кадры спектакля, а не художественные фотографии. Фотография театра только разоблачает его условность, и поэтому кажется фальшью, то есть неудачной, неумелой режиссурой.

Строго говоря, очень многим зрителям, не разменявшим чувство живой фотографии на пустяки, не все равно: они хотят видеть на снимке реальности такой, какой она была перед объективом, а не «визуальные высказывания» о том, что должно было быть, если бы творцом мира был фотограф.
Сюжет // Жизнь в сгустке времени
Почему я с подозрением отношусь к концепции нарративности применительно к фотографии? Попробую ответить. Фотография в моем представлении связана в первую очередь со временем, она и является сгустком времени. Целостным, замкнутым в себе сгустком, в котором можно жить. Течение времени разрушает мгновения, но в фотографии время не течет, так как нет смены аспекта. Наррация — кристаллизация действительности в формах языка, предполагающих принципиальный выход за пределы сгустка времени: начало, конец истории. Поэтому нарративность убивает фотографию как время.
Может ли фотография быть эпичной? Сомневаюсь. Возможность быть рассказом у неё есть, но не в смысле рассказа как информационного повествования о чем-то, а в смысле корня, из которого растут противоречивые смыслы. Предоставим слово Вальтеру Беньямину:
Вальтер Беньямин: «Лесков учился у древних. Первым повествователем греков был Геродот. В 14-й главе третьего тома его «Истории» есть сюжет, из которого многому можно научиться. Он рассказывает о Псаммените. Когда египетский фараон Псамменит был разбит и пленен царем персов Камбисом, последний стремился к тому, чтобы унизить пленника. Он приказал выставить Псамменита на дороге, по которой должно было проследовать триумфальное шествие персов. Дальше он устроил так, чтобы пленник увидел свою дочь, которая, теперь рабыней, шла с кувшином к колодцу. Наблюдая этот спектакль, все египтяне стенали и причитали, один только Псамменит стоял неподвижно и молчал, глядя в землю. И затем когда он увидел, как вместе с другими ведут на казнь его сына, он опять–таки остался неподвижным. Но чуть позже, узнав среди пленных своего старого верного слугу, он начал бить себя по голове, выказывая тем глубокую печаль.
Из этой истории видно, что значит настоящее повествование. Информация представляет интерес тогда, пока она нова. Она живет только в этот момент, она должна исчерпать и объяснить себя, не теряя времени. Иное дело — рассказ. Он не растрачивает себя. Концентрируя и сохраняя свою силу, он еще долго способен развиваться. Так, Монтень вернулся к истории египтянина и спрашивал себя: «Почему он был охвачен скорбью только при виде слуги?» И отвечает: «Он был так переполнен горем, что это стало последней каплей, чтобы прорвать плотину». Это сказал Монтень. Но можно подумать и по–другому: «Судьба детей не тронула фараона, потому что это его собственная судьба». Или еще так: «На сцене нас трогает многое, что оставляет равнодушным в жизни. Для фараона этот слуга — актер». Или: «Острая душевная боль накапливается и прорывается только тогда, когда наступает разрядка. Взгляд на слугу стал такой разрядкой». Геродот не объясняет ничего. Совершенно сухой рассказ. Именно поэтому история из жизни Древнего Египта спустя века еще способна вызывать удивление и потребность подумать. Подобно семенам, пролежавшим тысячелетия в безвоздушном пространстве пирамид и сохранившим всхожесть.
Ничто так не сохраняет в памяти рассказ, как целомудренное немногословие, которое не допускает никакого психологического анализа. И чем естественнее выглядит у рассказчика отсутствие психологических нюансов, тем больше оснований рассчитывать на то, что история останется в памяти слушателя, тем полнее она включается в его собственный опыт…»
Читая этот текст, я понял, почему не выношу «психологическую фотографию».
Вопрос «О чем карточка?» вполне оправдан в рамках традиционной точки зрения, которую можно кратко сформулировать так: снимок должен иметь тему (или сюжет), который опытный фотограф обязан «упаковать» зрителю самым лучшим образом, – по всем «правилам хорошего снимка». Такому зрителю надо четко и ясно ответить: «ни о чем». В смысле: «здесь нет нарративности, нет привычного сюжета, это фотография ни о чем не рассказывает». И тем не менее, это настоящая художественная фотография! Это – другая фотография, это – авангард или маньеризм (скорее, последнее). А зритель вправе додумывать видимое на карточке по волне своей фантазии. Это другой подход к фотографии, иное понимание ее целей и другая эстетика. В целом обстановка скверная: все чаше мы обсуждаем не фотографии, а запечатленные сюжеты или просто обмениваемся зрительскими эмоциями.

Стравинский был абсолютным новатором в музыке и был не понятен слушателям, воспитанным на романтической традиции Бетховен–Шуберт–Брамс–Чайковский. «Сюжет» романтической музыки – это само объективированное чувство, романтическая музыка – такой же язык для слушателей, как разговорный. Но вот пришел Стравинский и «предметом» музыки сделал сам музыкальный язык. Он акцентировал внимание слушателей не на том что выражает музыка, а не том – как она выражает, какими средствами, каким языком. Затем пришли совсем «страшные» люди – Арнольд Шенберг, Пауль Хиндемит, Альбан Берг и заявили композиторам: «засуньте свои чувства и эмоции куда хотите, но только не в свои произведения! Долой растрепанные чувства, да здравствует музыкальный язык».
Именно потому, что все изображение легко прочитывается, карточка действует только на сознание. Элементы недосказанности, фотографичности, тайны отсутствуют. Фотография, наверное, призванная взбудоражить, ошеломить зрителя, не достигает желаемой цели по той причине, что фотограф слишком навязчиво предложил зрителю свои услуги в выборе сюжета: настоящего эпатажа не получилось, стрела, выпущенная в сердце зрителя не долетела и до половины пути. Сюжет уже разжеван фотографом, на долю зрителя остается только или принять, или не принять его:

Нужно стремиться к тому, чтобы фотография, – благодаря формальной, так сказать, «поэтической» структуре, – подвигала зрителя на художественное восприятие изображения, а не просто «громыхала» этой структурой как рыцарь ржавыми латами. Но снимок, лишенной «стихии», на мой взгляд, если и способен вызвать художественное переживание, то только благодаря ассоциациям, связанным с изображенными культурными ценностями. Это восприятие временно и преходяще, как я убедился, рассматривая альбомы некоторых крупных ушедших фотографов, например, Робера Дуано. Те его работы, которые имеют визуальный порядок, интересны и по сей деть, а те, содержание которых исчерпывалось сюжетом, большей частью вызывают недоумение: «ради чего снималось?». То есть, 50 лет назад, что-то казалось забавным фотографу и его зрителям, а новым поколениям сейчас – тривиальным. Это судьба всех сюжетных работ: они отсылают зрителя к временному культурному контексту.

Действительно, античная живопись полна бытовыми и мифологическими сюжетами, средневековая – религиозными. Но с Мазаччо и Ван Эйка начинается поворот к современной живописи: целью изображения становится видимость, а не смысл. То есть, чисто визуальная проблематика выходит на передний план. В советской фотографии был период, когда смысл изображения вышел на первый план: это соцреализм. Соцреализм интересен: это большой стиль, даже мировоззрение. Я другое обсуждаю: не как там было «на самом деле», а что выражает сама фотография. Кажется, Г.Виногранд сказал, что фотография показывает не мир, а как он выглядит на фотографии. Именно этот образ и нужно обсуждать. А что в реальности — за рамками фототемы.
«Если полностью отказаться от сюжета, высказывания, содержания и целиком сосредоточится на визуальной структуре, то что останется от фотографии кроме орнаментальности?» ― остается странность мира, его некоторая избыточность, которая по моему мнению и должна быть сказуемым фотографии. Поясню. Если бы перед зрителем была бы не фотография, а вот такая, как выше, картина художника, то Вы, наверное, были бы правы в своем мнении: ничего кроме красивого декоративного орнамента в ней не было бы. Но это не картина, отражающая замысел художника, а момент самореализации действительности: так было и так удивительно сложилось в какое-то мгновение.

Мои интенции в фотографии прямо противоположны массовой тенденции искать в разверстой реальности привычные смыслы: например, «бабушка сидит у окна – она умеет ждать». Обычный смысл всегда парадигмален: берется из ряда бытовых смыслов, известных некоторой культурной общности людей. В моих фотографиях реальность раскрывается со своей небытовой стороны и смысл этого раскрытия до конца не ясен. Современный человек не готов к этому и воспринимает фотографию как орнамент. Что не верно.
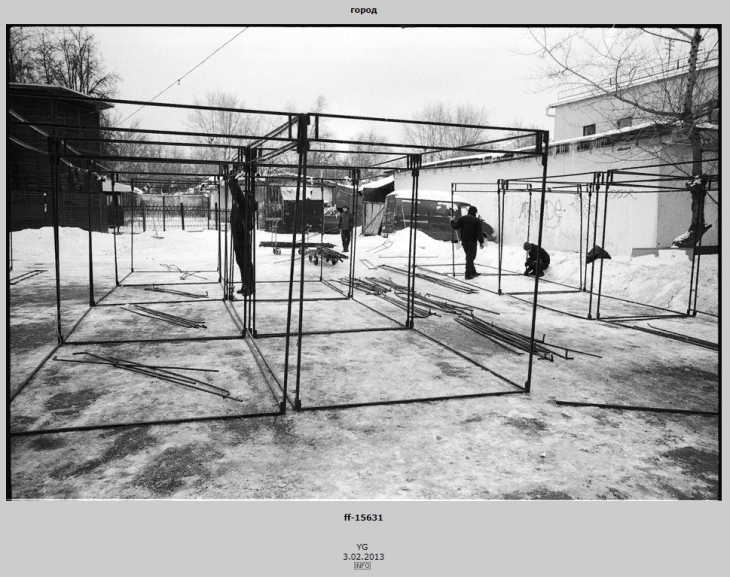
Фотография ― это вещь, а вещь ― это то, что несет весть человеку. Перед вами не информативная, а художественная фотография, то есть весть, которая дойдет до того, кто хочет видеть и чутко вглядывается. Для тех, кто умеет вглядываться в знаки, кто умеет сопоставлять. Мои фотографии неизменно об одном и том же: как время кристаллизуется в пространство. О времени как оно есть. А за сюжетами ― к другим авторам.
Сообщества // Радость банальностям
Принципы работы фотосайтов придуманы более 10 лет тому назад. Тогда возможность всем миром ставить оценки и писать комментарии под фотографиями воспринималась как прорыв. Действительно, на экспозициях в галереях любое обсуждение локально, а оценки никто не ставит. Но за 10 прошедших лет идея пережила себя: ставить оценки интересно разве что новичкам, писать дельные комментарии – серьезный труд, а не развлечение. И оказалось, что все фотосайты более-менее одинаковы.
Проблема лайна в том, что его структура делает общение слишком доступным. В жизни все наоборот. Что можно узнать у прохожего на улице? – «Который час?», «Как пройти…» И это всё или почти всё. Остальные вопросы обсуждаются в узком кругу коллег, семьи или друзей. Это нормальная структура, отражающая порядок жизни и иерархичность общества. Почему же здесь каждый может появиться под карточкой любого автора, и писать что взбредет в его голову? С какой такой стати? Сколько раз я попадал в дурацкое положение, написав зачем-то комментарий, который автору вообще не был нужен. Он просто не понимал, о чем я пишу. Зачем я тратил свое время? – Ведь автор не звал меня писать под его карточкой. Или так: ко мне приходят зрители, которые пишут всякую чепуху, не понимая, что я делаю. Зачем мне их отзывы, почему я должен отвечать на их бессмысленные вопросы? – Глупость какая-то: в жизни я вообще бы не стал с ними общаться, да и не пришли бы они ко мне, – я им тоже не нужен, по правде говоря.

Розовые мечты о фотокритике рассеялись давным-давно. Самое правильное решение: ничего не писать под карточками, которые не интересны. Не надо омрачать авторов, которые радуются банальностям. И всем будет хорошо.
Эдуард Чередник: Фотокритика, как и литературная критика – литературные жанры (полноценное художественное творчество) и не каждому это очевидно; людям кажется, что критика – это вроде доказательства теоремы, где критик обязан убивать всх наповал силой своих доказательств, доставать улики, работать со свидетелями, судом и прокурором, приводить результаты вскрытия судмедэкспертом, а суд принимает объективное и беспристрастное решение, руководствуясь уголовным кодексом критика.
Ваши фотографии смотрят только до тех пор, пока вы здесь тусуетесь, а когда отойдете… на другой сайт, о вас забудут через пару месяцев. Такова реальность. Это плохая реальность, потому что предлагает авторам мишуру «клевых фоточек» и чепуху пустой болтовни. Все это не соответствует предназначению человека, просто низводит человека до функции актанта. К сожалению, структура фотолайна нацелена на удобство пиара авторов и ничего другого не создает.
Думаю, предел мечтаний фотографа на лайне – снять то, что 1000 раз снято и 10-ки раз попало во все топы. Тем самым, подтвердить свою принадлежность доминирующей группе фотопопсовиков. Это реально, поскольку средний зритель не имеет памяти, длящейся более суток. То, что выставлялось год назад, забыто 99,99% зрителей.

Эдуард Чередник: «нужна система продвижения талантов в творческих социальных сетях» — не понятно, кому нужна такая система? Вам? Талантам? Социальным сетям? Допустим, такая система кому-то нужна, но не существует. Проиллюстрируйте свою идею на примерах, возьмем, к примеру несколько талантов. Как Вы предлагаете продвигать Анну Войтенко, Влада Краснощека, Александра Гронского в социальных сетях? Создать экспертный совет на отдельно взятом фотосайте и присвоить им титул талантов, наставить платных пятерок? И что дальше? Влада Краснощека и Гронского повезут в Хьюстон на биеннале? Так они и так уже без Вас поехали, пока Вы тут мыслите о чем-то. Анне Войтенко денег дали вместе с титулом (пусть и не сразу).
Когда Георгий Пинхасов – студент ВГИКа – решил заниматься фотографией, он по счастью не пошел в клуб «Новатор», а отправился в Библиотеку Иностранной литературы, где внимательно просмотрел все номера чешского журнала «Фоторевю», которые нашли в книгохранилище. Эти фотографии врезались в его память. Быть может, если бы Георгий отправился на собрания «Новатора», то вместо выдающегося фотографа мы бы имели убежденного фотолюбителя, украшающего отчетные клубные выставки очередным туманным пейзажем с лодочкой на переднем плане. Все-таки удивительно, что самый известный московский фотоклуб не оказал ровным счетом никакого влияния на развитие фотографии (не говорю мировой, но хоть советской).
В начале 80-х в клуб пришел Сан Саныч Слюсарев, в то время уже известный фотограф, хотел вступить – не приняли. Еще раз: выдающемуся фотографу А.А.Слюсареву 300 махровых дилетантов-новаторцов отказали вступить в клуб. Еще пример. Когда Ляля Кузнецова сделала первую цыганскую серию, на неё обратил внимание Суткус и он пригласи ее учиться у себя. Ляля моталась из Казани в Вильнюс, проводя неделю – 10 дней у Суткуса, потом на месяц в Казань – к маленькой дочери. Но Москва-то поближе? В Москве – знаменитый Новатор. А Новатор знать не знал о Кузнецовой и Кузнецова не стремилась в Новатор: там нечему было учиться. Вот и все.
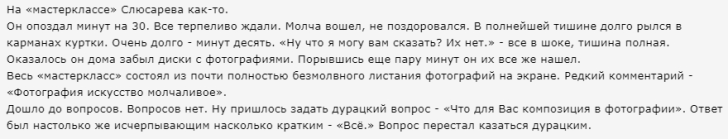
Допустим, Слюсарев «гнул пальцы». Поэтому его не взяли. То есть выдающийся фотограф повел себя не так, как ожидала серая масса. Да, ну что сказать? Вот пример другого отношения к гениям. Владимир Семин получил в 1996 годы самый престижный в фотографическом мире грант – «The W. Eugene Smith Memorial Fund». Американцы пригласили его к себе, платят пенсию, на которую он может снимать, что хочет. Зачем это им? – Просто хотят иметь выдающегося фотографа у себя. Другое отношение, не совковое. А что Слюсарев новаторам? – «Пусть катится!». Это совки 50-летней выдержки.
Смелова не приняли ни во ВГИК, ни в инстиут Культуры на кинофотоотделение. А почему? Талант заметит только другой талант. А ведь чужой талант – кость в горле для многих бездарей. Не простят, утопят, с диким восторгом сгноят.
Советская фотография // Внешние смыслы
Культура фотографа состоит в том, что он обсуждает фотографии, а не политику. Помню, как поразили меня слова Георгия Колосова, что фотографы должны собираться только по одному единственному поводу: это обсуждение фотографий. К словам Георгия мне добавить нечего. Фотография не свидетельство события, а есть проекция света, отраженного от вещей на светочувствительную поверхность. И только это. Событие – это результат рефлексии субъекта (субъектов). Вот та бодяга, что здесь развели, так сказать, фотографы – это и есть попытка создать то или иное событие в плоскости этой фотографии, упражняясь в нехитрых словопрениях.
«Мне искренне жаль, когда интеллектуалы скрываются от жизни на воображаемой полянке» — на воображаемой полянке оказываются все те, кто судит о мире по СМИ, роликам и картинкам из интернета. Теперь каждый имеет возможность подобрать источники информации «по душе», причем эти выбранные СМИ будут щекотать нервы своей жертве, вести ее по жизни. Это хороший способ совершенно осатанеть, превратиться в тролля. Извини, для меня Мир – это то, что вокруг меня, до чего я могу коснуться рукой, это те, с кем могу лично поговорить, обнять. Это мое поле. И фотографирую я в своем поле. Политика – это всегда действование на поле другого. Это, кстати, не моя мысль, а Мамардашвили. Глубокий был мыслитель.

Давно ясно, что официальная советская фотография вербальна, как реклама. Без остатка претворяется в слова. Впрочем, она и являлась рекламой советского образа жизни и достижение социализма. За рубежом и на периферии СССР – в Литве – занимались настоящей фотографией: визуальной. По-моему, это уже обсуждалось много раз. В то время как во Франции был постоянный интерес к визуальному как со стороны художников и фотографов, так и со стороны крупнейших философов, в СССР фотография была служанкой слова.
«Зрители не обязаны исправлять ошибки автора, который отвечает за легкость и четкость считывания и восприятия изображения, обеспечиваемое верным композиционным построением» ― это философия Дыко и всей советской фотографии. Рецепт картинок, легко усвояемыех за чтением передовицы. Композиция нужна, чтоб и дебилам донести правду.

Вы прекрасно понимаете, что банальность сюжета не мешает снять его интересно. Что может быть банальнее сюжетов Култышкина, к примеру? Проблема в том, что здесь банальное снято банально. И не только снято банально, – а точно так, как должна была показывать газета, утверждающая преимущества советского образа жизни.
Дело не в том, что в советских газетах была фальшивая постановочная фотография. Постановка может быть высоким искусством. Важно другое: фото в газете смотрят не так, как фотографию-искусство. В СССР практически не было этого опыта «другого зрения». То есть, опыт у кого-то был, но в основном ограничивался Литовской школой фотографии.
Эдуард Чередник: Чукотские ученые наконец-то доказали теорему Пифагора. Чему вы собираетесь учиться у “старой школы”? Настройкам фотоаппарата? Этому можно научиться по инструкции к нему. Идеям? Они какие-то особенные, у старой-то школы? Всю жизнь (за редким исключением) плелись в западно-европейском фарватере, а из своего кроме лжи и фальши зрителю не предложили.
Вся эта многозначительность фраз про старую школу идет от незнания. Полистаешь альбомы современной фотографии какого-нибудь Ирана или Китая и понимаешь, что очередное потерянное поколение растет в России. Кроме как паразитировать на достижениях предков не научились и учиться не собираются. Этнографию не нужно путать с фотографией.
По-моему, главное расхождение советской фотографии от западной, — семантическая нагруженность первой по линии in absentia. Фотография как инструмент пропаганды нагружалась внешними смыслами, так сказать «образами» из заданного пропагандой ряда. В то же время запад практиковал визуальность как внутренний сказ – in preasentia. И конечно, в современном искусстве сказ вообще отсутствует. Есть только рана, боль.
Брессон жил во Франции в эпоху высокой визуальной культуры, которой в России никогда не было. Кстати, в Америке Брессон не слишком был известен, но и там визуальная культура была весьма высокой, достаточной, чтобы его признали. В СССР (после 20-х) и современной России фотографию как искусство визуального никогда не понимали. Все эти советские фотки – сплошной нарратив. Фотокарточки пересказываются мгновенно. Собственно, лайн хорошо показывает уровень визуальной культуры: ничего не изменилось.
Тоталитаризм // Игра на чувствах
Слова Ролана Барта из его статьи «Фото-шоки», посвященной выставке репортажных снимков в галерее Орсэ: «…ни одна из этих слишком уж ловко сделанных фотографий не трогает нас. Всё дело в том, что когда мы рассматриваем их, то в каждом случае лишаемся возможности вынести свое собственное суждение: кто-то другой, а не мы, … задумался вместо нас и вынес свое суждение; фотограф ничего не оставил на нашу долю – кроме элементарного права на интеллектуальное примирение…»

«Jeff Wall использует тот же технический прием, что и “социалистические реалисты” (напр. – Ролов), но почему-то их за это хулят, а его хвалят. Почему? Наверное, потому, что “соцреалисты” пытаются (пытались) пропагандировать оптимизм и созидательность, а Jeff ничего не пропагандирует, а “просто так”. Нет?» — на мой взгляд, главное отличие советских официальных фотографов от Джефа Волла в том, что первые пытались вызвать зрительское соучастие и сочувствие к происходящему на их фотоснимках. Зритель мог себя отождествить с персонажами снимка, поучаствовать в их «играх». Собственно, «их игры» были и его – зрителя играми. С Воллом не так просто. Даже если судить по той фотографии: очень трудно соучаствовать человеку, непонятно чем озабоченному. Фотографы вроде упомянутого Ролова – кукловоды, Волл – художник.

Эдуард Чередник: Эмпатия, т.е. перенесение на фотографию вызываемых ей чувств очень важна. Но в первую очередь она важна для специалистов по рекламе и маркетингу, чтобы невербально транслировать людям свойства рекламируемой продукции, формировать и управлять ожиданиями покупателей.
Я принципиально против какого-то специального эмоционального воздействия на зрителя. Фотография должна быть нейтрально-холодной, чтобы в тиши чувств зритель встретился с бытием прошлого здесь-сейчас. Что и есть цель фотографии. Кроме того, управление чувствами зрителя – это пройденный в исторической школе этап: фашизм, соцреализм, тоталитаризм и прочие измы. Если зритель не дурак, то поймет, что его «ведут под руки», играя на чувствах. На меня мои фотографии иногда воздействуют эмоционально. Ну и что? Это нестабильно. Может на кого-то еще воздействуют. Не моя забота. Эмоция так сказать, предписанная зрителю, заданная интенцией фотографии, – это совсем другое. Это тоталитаризм в любой его форме.
Случай // Хорошая встряска
Фотографировать можно везде. Не нужно ехать за тридевять земель, подниматься на вершины гор или нырять в толщу вод. Нужно смиренно ждать события, в котором бытие и время обретут друг друга в одном и том же месте,когда время споткнется о пространство, а время свернется во всё единящую близь. Для меня хороший репортажный снимок преодолевает тяготение к месту и времени события.
Я никогда или почти никогда не снимаю то, что мне понравилось в реальности. Если сразу видишь или понимаешь, что получится, — значит получится тривиальность, китч или современный тренд (ненавижу современную фотографию). А вот если что-то неясное позовёт снимать… тогда может получиться настоящая фотография. Случай – нерв фотографии.
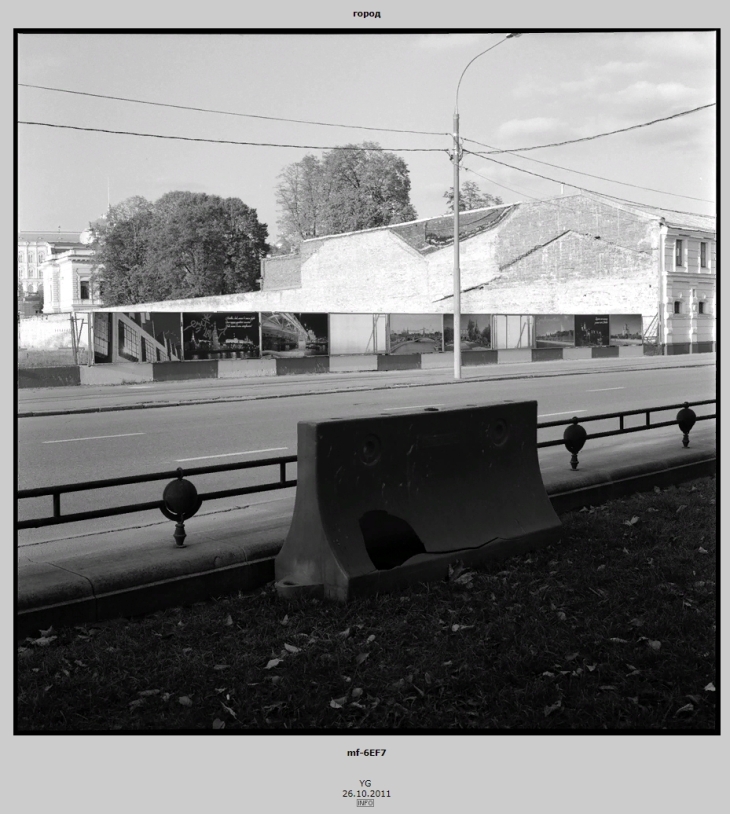
Фотография – не кофе, который нужно непременно налить в чашечку, чтобы потом выпить. Фотографию можно вначале снять, а потом подумать, во что она вылилась.
Часто сама реальность захотела выразиться так, как получилось, а не иначе. У фотографии часто нет автора, чьи интенции она представляет, а замечаемые зрителем интенции принадлежат «физис», т.е. самораскрывающейся реальности.
Любая фотография интересна тем, что это было. Невозможно правильно понять «Площадь позади вокзала Сен-Лазар» Картье-Брессона, если воспринимать его фотографию просто как живописное изображение. Подумаешь, мужик прыгает как балерина, – можно и не такое нарисовать… А вот если учесть, что это случилось… то есть, плакат на заборе «сбывается», становится интересно. Это случай.
Когда-то в одной дискуссии я приводил слова Дороти Ланг, сказанные ей Ральфу Гибсону в бытность его её ассистентом. Посмотрев работы Гибсона, она сказала: «У тебя нет отправной точки. Если ты идешь в аптеку за зубной щеткой у тебя больше шансов сделать хороший снимок, чем если ты будешь стоять на улице и ждать, когда что–нибудь произойдет». Ральф это запомнил и убедился в истинности ее слов. Интересно, что Ланг произнесла эту реплику после того, как увидела фотографии Ральфа. Что она хотела сказать, и что она заметила в работах Гобсона? Если фотограф – просто субъект, воспринимающий действительность, то нет никакой разницы, идти в аптеку и фотографировать по пути, или стоять на перекрестке и ждать события… Я думаю, Дороти понимала тайну фотографии: фотограф – не субъект восприятия. Конечно, легко перетолковать фразу Ланг на манер психологизма, но психический настрой фотографа по работам не слишком выявишь. А если это так: фотограф не субъект, то, может, и зритель не субъект, а семиотика со своими сообщениями оказывается неадекватной сущности феномена фотографии?
Фотография есть результат субъективной деятельности автора фотографа, – результат, который воспринимается другим субъектом – зрителем, благодаря специфической субъективной деятельности – расшифровке «визуального сообщения». Но в таком случае зрение – проявление направленности человека на сущее. Так большинство думает, почти все. Кроме продвинутых, которые допускают, что само сущее может быть направлено на человека. Тогда видение – это выступление самого объекта, а не субъективная деятельность зрителя-субъекта.
Вообще, когда фотограф ждет чего-то, стоя на улице с фотоаппаратом, обычно получаются простые снимки, как этот:
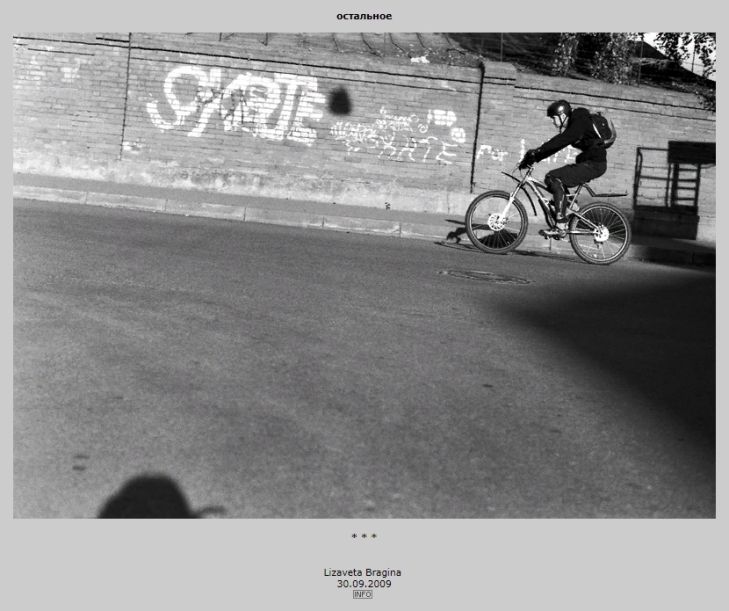
И понятно почему так складывается: фотограф реагирует на ему понятные ситуации и ему понятную геометрию картинки. А вот если будет настоящий случай, – как подарок бытия, – то фотография превосходит понимание автора. Потом, разбирая отснятое, понимаешь: вот, ради этого нужно было снимать. Автор должен быть готов реагировать на месте в направлении непонятного, – тогда есть надежда снять что-то существенное, превосходящее априорные ожидания (всегда банальные, по правде говоря).
Обычно я не фотографирую сюжет, если у меня уже сложилась его интерпретация. Зачем снимать то, что понимаешь?
Кажется, Гераклит написал о Дельфийском оракуле, что «он не утверждает, и не отрицает, – он подает знаки». Я думаю, что хорошая фотография тоже ничего не утверждает и не отрицает, и, – тем более, – ни о чем не рассказывает. Она подает знаки. Фотография не имеет диегезиса. Какой бы вопрос не задать об изображении (кроме категориальных), – нельзя будет ответить «да» или «нет». [Разница между диегезисом и мимезисом в том, что диегезис “рассказывает”, а мимезис “показывает”].
Я думаю, многие фотографы, с камерой в руках ищущие случая, чувствуют живой отклик окружающего мира и его готовность открыться. Фотографу только нужно не искать себя, не превращать фотографию в способ самовыражения, не диктовать сущему свои представления, а принести в жертву амбиции и смиренно ждать просвета. Что означает этот просвет? Просвет означает то, что мир нуждается в зеркале, каковым является фотография, и фотограф – это тот, кто способен откликнуться на призыв сущего войти в разверзающийся пред ним просвет. Но что являет собой просвет и что в нем открывается?
Орсон Уэллс говорит: камера не просто отражает сущее, она приносит послание из «другого мира». Уэллс не поясняет, что это за мир. На самом деле это вовсе не другой мир, а другое измерение того же самого мира, окружающего человека, – просвет бытия, – измерение действительно непривычное, разрушающее функциональное удобство и мнимую понятность сущего. Уже древние греки заметили, что бытие ускользает, скрывается от человека, заслоняясь сущим. Мы практически никогда не сталкиваемся с бытием, поглощенные расхожими представлениями о мире и доступной функциональностью вещей. Чтобы столкнуться с бытием, нужно уйти от вещей. И в снятии пелены функциональности с вещей на помощь приходит фотография, – только если это честная фотография, являющаяся ответом на призыв сущего увидеть себя в зеркале, – только такая фотография способна показать мир не в тусклом мерцании вещности, а в краткой вспышке бытийствования.
«Недавно видел снимок, когда невеста в ЗАГСе чихает во время речи регистратора. Та же случайность, что и у Вас. Результат – искажение реальности в нелепую сторону, нужны ли подобные снимки?» — как это «искажение»? Ведь чихнула? – Чихнула. Что было, то было и осталось в кадре. Я понимаю, в чем дело! Для многих наших современников реальность – послушная скотинка, которая должна вести себя так «как надо». А если что не так получилось, то и не было того вовсе, а было подлое искажение реальности от предписанного регламента. Некоторые люди привыкли повелевать реальностью, но такая фотография – хорошая встряска для них.

Я открыт Случаю и не гну реальность под свои планы. Это принципиальное отличие от многих других фотографов, в частности постановочных. Одно дело проявлять свою волю и добиваться какой-то «параллельности», другое – ждать самораскрытия сущего. Для меня фотография – не «воля к власти», а предстояние Случаю.
Кстати, Китаев… говорит что наступает такой момент, когда место съемки (пейзаж или улица города) открывается для фотографа. При чем, эта открытость совершенно не зависит от воли или желания фотографа. «Или случилось, или нет» — заметим, что не только Китаев это говорит. О себе не буду из скромности, напомню о точке зрения Лакана и Бодрийяра о том, что нечто само хочет быть сфотографированным. Вспомните историю с консервной банкой Лакана.
Бытие // Тайна открытия и сокрытия
Сейчас время, когда банальности, произнесенные или показанные тысячи раз приобретают статус магических заклинаний: «все хорошо, все по–прежнему, все понятно!». Человек отдаляется от бытия (то есть неизвестной и, возможно, страшной причины роста всего сущего), заслоняясь самим сущим в его понятной потребительской вкусности: кошечками, закатами, скалами и айсбергами, голыми задницами загорелых баб, — всем тем, что медиа сделали особенно «близким» к человеку. Естественно, фотография из инструмента проникновения в глубины бытия превращается в громкоговоритель банальностей.
Фотограф – чуть ли не единственный человек, который имеет дело с бытием. Не со временем, не с вещами, погруженными в поток времени, а с самим Бытием, то есть великой тайной открытия и сокрытия. Другие люди вообще не замечают Бытие, то есть, не имеют понятия о том, что такое «есть». А фотограф, если не гоняется за формальной красивостью, – может знать, что такое «есть». Но «есть» – не просто открытие, а борьба между открытием и сокрытием. Мартин Хайдеггер любил повторять слова Гераклита: «Природа любит скрываться».
«Сущее есть то возникающее и самораскрывающееся, что своим присутствием захватывает человека как присутствующего при нем, т. е. такого, который сам открывается присутствующему, выслушивая его» (Хайдеггер). Лучше не скажешь.
Фотография – не отражение бытия, а обнаружение. Не каждая фотография обнаруживает бытие, обычная фотография схватывает предметный мир и только. Бытие редко обнаруживается и, как я уже писал, мало кем замечается. Время как линейно текущий поток вещей и событий известно каждому, бытие – нет.

Я думаю, изобретение фотографии – эпохальное событие, это всё-таки, не изобретение туалетной бумаги с запахом апельсина. А раз так, то фотография – посыл Бытия не в меньшей степени, чем научное открытие (техническое изобретение). Тогда вопрос о сущности фотографии не праздный, и её сущность может скрываться совсем не в технической стороне изобретения. Вот так.
Я думаю, выдающееся значение фотографии заключается в том, что она дает опыт другого отношения с сущим, нежели субъект-объектное. Причем, это опыт не только мой. Напомню о Бодрийяре, Лакане. Опыт выдающихся фотографов. Что же касается Ваших вопросов по философии, я думаю, их не нужно адресовать их ко мне: я – не философ. Если Вам интересна философия, – читайте философов. А если вопросы порождены простым досужим интересом, – примите совет: оставьте их. Ну, не потяните за чашкой чая приобщиться к сущностному мышлению. Тут требуется немалое усилие и упорный труд. Прочтите для начала «Наука и осмысление» Хайдеггера. Не пойдет с первого раза — оставьте, если с раза 4–ого заинтересует, – хорошо. Читайте 5, 6 раз… Успехов!
Я не согласен с Вами в том, что искусство – репрезентация. «Репрезентация» вообще есть способ, коим присутствие (т.е. человек) ставит перед собой сущее как нечто противостоящее ему, как то, что нужно соотнести с собой-представляющим, и войти в это выстроенное отношение «как в определяющую область» (говоря словами Хайдеггера). Вещь – не предмет, противо-стоящий человеку как картина, а сущее, требующая человека именно как внимающее присутствие, при котором происходит самораскрытие сущего. С этого подхода «торкнет» – очень точное слово, определяющее суть искусства. Торкнет – значит схватит и будет трясти. Кто кого трясет? Не зритель произведение, а наоборот, произведение как вещь заставляет присутствующего войти в свою человеческую сущность. То есть, в случае искусства (настоящего), активность проявляет произведение. А в случае репрезентации, сущее – безвольная вещь, лежащее в операционной сознания воспринимающего субъекта, который «режет как хочет».
Можно так сказать: если человек воспринимает произведение как простую репрезентацию, то либо это не совсем искусство, либо человек неадекватен произведению, воспринимая его просто как предмет, «нагруженный расширительными смыслами». Таким образом, всю семиотику – в жопу! Если говорить более простым языком, искусство дает такой опыт человеку, в котором он врасплох застигнут неким другим бытием, бытийствующим в вещи-произведении, – бытием, которое так захватывает человека, что не дает ему возможности собраться в субъекта, а на произведение смотреть как на репрезентацию сущего.
Семиотика // Пространство вазы
Почему я скептически отношусь к семиотическому подходу в фотографии. Рассматривая фотографию как структуру знаков, зритель противопоставляет ее себе как пред-лежащий объект. Но фотография непосредственно связана с реальностью (в прошедшем), а реальность тот же зритель не рассматривает как нечто пред-лежащее, он в ней – реальности – живет. Поэтому семиотика проскакивает мимо сути фотографии. Можно, конечно, рассматривать фотографию как текст, но при этом многое теряется.
Я начинал разбирать фотографии как семиотик, – потому что еще в университетские годы интересовался литературоведением, где семиотика принесла достойные плоды, но постепенно стал понимать тотальное неблагополучие семиотического подхода, особенно в фотографии. Главная причина моего семиологического скепсиса – философская непроработанность основных понятий семиотики, например, понятий «знака», «сообщения». Основной вопрос – не «что такое “знак”», а «какой тип мышления нуждается в этом понятии». Семиотика претендует на научность, т.е. априори ставит исследуемый объект (произведение) против человека – субъекта, который воспринимает, исследует и постигает объект. Например, расчленяя объект на части-знаки и вычленяя риторические формулы их взаимодействия. А почему собственно, я должен соглашаться с такой схемой отношения человека и произведения?
Может быть, именно в искусстве и фотографии мы сталкиваемся с чем-то уникальным, что не подпадает под концепции европейской науки и европейской метафизики, как основы науки? Я обратил внимание, что Барт в camera lucida и «третьем смысле» хотя и пользуется семиотическим языком, но отходит от семиотики. Скажем, он пишет: «…я решился принять за исходный пункт моих поисков всего лишь несколько фотоснимков, относительно которых я не сомневался, что они существуют для меня». Вот этот феноменологическое «существование для меня» произведения (да и просто фотографии) не объяснимо с позиции семиологии, как это ни старался сделать Барт, вводя понятия студиума и пунктума.
Вторая очевидная проблема семиотического подхода в фотографии заключается в том, семиотике по сути все равно, какова природа знаков. Живопись и фотография становятся неразличимы. Ну, может быть, у фотографии специфична поэтика, но не суть важно. Однако, «Площадь Сэн-Лазар» Брессона удивительна только как фотографии того, что было.

Семиотик описывает видимое на фотографии как «иконические знаки». Иконический знак указывает на нечто отсутствующее. Следовательно, фотография – система знаков с отсутствующим референтом. Но непосредственный феноменологический опыт говорит о другом: зритель схватывает видимое на фотографии как будто имеет дело с реальными вещами. Реакция зрителя на видимые на фото вещи почти такая же, как на реальные вещи в действительности. Конечно, полного тождества нет: например, фотография безопасна, вещи не угрожают человеку. Но это присутствие вещей на снимке нельзя квалифицировать как их полное отсутствие. Поэтому мне кажется, индексальность фотографии более важная черта, чем иконичность. И более продуктивна для осмысления. То есть, сознание зрителя свидетельствует, что вещи на фото присутствуют в определенном смысле. Философия должна изучить такой тип сознания. Это тема вне семиотики.
Когда говорят о вещах, считается (и в семиотике считается), что вещи к разговору непричастны. Разговор – это слова, а не вещи. Вот на столе – ваза, а мы сидим за столом и говорим о вазе, но разговор как бы происходит в другом пространстве, с пространством вазы не сообщающимся. Это не научный вывод, а просто философская позиция. Но, может быть слова – поверхность самих вещей? (Нормальный вопрос в русле «Кратила»?) Вот, фотографирование, – которое семиотика рассматривает как «передачу сообщения», – типичный поверхностный эффект (особая сущность в смысле стоиков). Напряжение, которое испытывает фотографируемый перед щелчком затвора, сродни страху перед порезом. А почему? – и то, и другое, поверхностные эффекты. Именно в таких ситуациях человек встречается со временем.
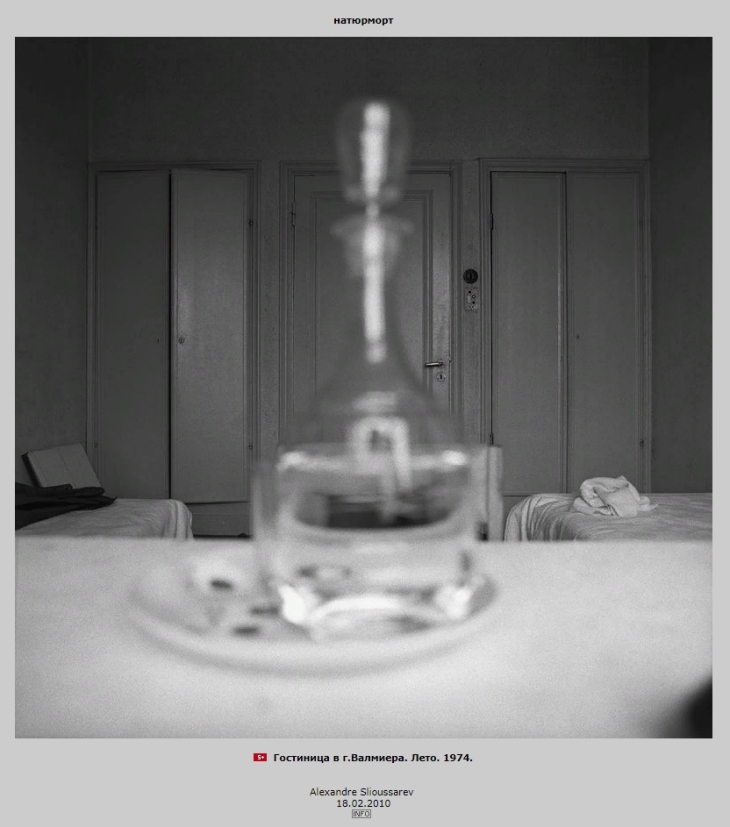
В «Кратиле» Платона: «Многие считают, что тело или плоть (soma), подобно могильной плите (sema), скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. В то же время эта плита представляет собою также и знак (sema), ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело правильно носит также название sema». То есть, тело – знак, который выражает состояние души. Согласитесь, это другой тип отношения между знаком и означаемым.
Эдуард Чередник: Семиотика изучает всё, что воспринимается или выступает в качестве чего-либо другого. Если человек воспринимает фотографию не тем, чем она является на самом деле, а знаком чего-то, чем-то имеющим смысл, то семиотика может предоставить исследователю целый ряд проработанных концепций и теорий. Поможет ли это понять какие-то проблемы человека, изучающего фотографию? Ну а почему бы и нет? Какие-то проблемы, пожалуй она позволяет понять.
Я писал сто лет назад о ключах художественного исполнения произведения. В таком режиме можно сто лет исполнять лунную сонату и каждый раз находить в ней новые смыслы. Я не считаю, что Лотмана или Эко нужно читать подобным образом. Довольно тривиальные мысли, до которых любой сможет доехать самостоятельно при наличии времени. Не вижу смысла перечитывать букварь до дыр, каждый раз находя в нем несуществующие новые смыслы. Может быть, если я найду такую книгу, в которой я буду каждый раз находить что-то офигенно новое, я брошу искать новые мысли.
На метафизику мне наплевать с высокой колокольни, метафизики я и сам в состоянии наплести с три короба, благо дело правила вывода новых утверждений не сложны, а аксиомы примитивны. Философы молотят охинею по Тьюрингу уже сотни лет и ушли в хрен знает какие дебри. Семиотика же ничего из себя не представляет по сути, кроме как вскрывает работу знака и образования смысла – довольно примитивный инструмент, если отбросить шелуху заумных фраз.
Описать можно что угодно естественным языком используя всего два слова «г-но» и «не г-но». Вопрос в том, получится ли у ста разных художников воссоздать по такому описанию изображение. Фотороботы обычно мало похожи на преступников, а уж лицо-то проще всего описать.
Наука // Подача и ответ
Вы все время ссылаетесь на объективность науки и противопоставляете ее кажущейся Вам субъективности гуманитарной сферы. Вы каждый раз требуете определить, что такое искусство. Возможно, этого нельзя сделать. Я не знаю. Нельзя определить, что такое человек. Ни одно определение человека, не схватывает его как целое, «неадекватно объекту исследования». Но с чего Вы взяли, что наука объективна? Естественные науки опираются на математику, а математика опирается на понятие числа. Никто не может определить натуральное число. Никто не знает, что такое единица. Число можно определить в аксиоматической теории множеств, но тогда неопределяемым понятием становится понятие множества, единства, воспринимаемого как целое, воспринимаемого как… единица. Позвольте, круг замыкается. Теория множеств – не выход. Так почему же Вы настоятельно требуете определения «понятия» искусства, прощая естественным наукам их удивительную слепоту в своих собственных основах?
Следует внимательнее приглядываться к уникальным и редким событиям, возможно, что сущность жизни проявляется в них с большей откровенностью, чем в повторяемых научных экспериментах. Научный эксперимент – это игра в природой в пинг-понг: подача ученого – ответ природы, подача ученого – ответная подача природы… В игре открывается не истина, а познается структура игры, ее скрытые правила, которые восторженный исследователь воспринимает как «законы».

Ученый – это как бы человек, который отрубил себе данные ему от рождения руки и ноги, заменив их протезами, и радующийся, тому, научился лихо бегать на костылях. Костыли хорошие, моторизированные, умные, блестящие и дорогие. Но ведь что-то ушло с руками и ногами, которые от матери достались, которые отрубили… Ушло ощущение близости и родственности земли, вещей, неба, – всего сущего. Все стало недалеким и неблизким. Поэтому обсудить различие «цифры и пленки» тоже стало невозможно: нет органов, чтобы щупать, одни костыли формул.
Между прочим, до сих пор нет ясности, как протекают фотохимические процессы в чб фотографии. Некоторые думают, что наука изобрела фотографию. Ничуть не бывало: наука толком не может разобраться в том, что там в недрах эмульсии происходит! Есть по крайней мере две альтернативные теории: Герни-Мотта и Митчела. Это в 21-м веке! Чб фотография – внутреннее про-явление природы. Теория «плавает». А вот цифровая фотография – порождение теории. Против ничего не скажешь. Хочу напомнить, что цифра вводит дискретность до появления картинки. Дискретность аналоговой фотографии – во-первых, плод теоретического дискурса; во-вторых, возникает (если уж считать, что она присуща фото) после проявления эмульсии.
Нужно уточнить, что я понимаю под «обывателем». Это скорее «открытый миру человек», то есть, тот человек, для которого сущее не является только предметом, противопоставленном ему в акте чувственного восприятия или рассудочного познания, как для «ученого человека». Это человек, для которого сущее в первую очередь связывает его с его – человека – собственным бытием. «Обыватель» понимает, что люди (в том числе «ученые») сформированы этим сущим и простым отношением к нему до того как развернулась наука. Таким образом, наука вторична для понимания сущего. Эта некая шелуха, мешающая принимать мир таким, как он есть. Поскольку наука – это априорные схемы, а не феноменология.
Современная наука – это понимание в рамках субъект-объектного отношения. И только. Причем, «понимание» мыслится как возможность расчета, предсказания поведения объекта в будущее и прошлое. Ни о какой сущности речь не идет. Явно это понимание в рамках научного метода и исследовательского проекта. Хотим понять гравитацию – пожалуйста! Вот вам афинное кручение. Не нравится такая модель? – вот другая: Бранса-Дикке. Ну, какое это понимание? – только в кавычках: «понимание».
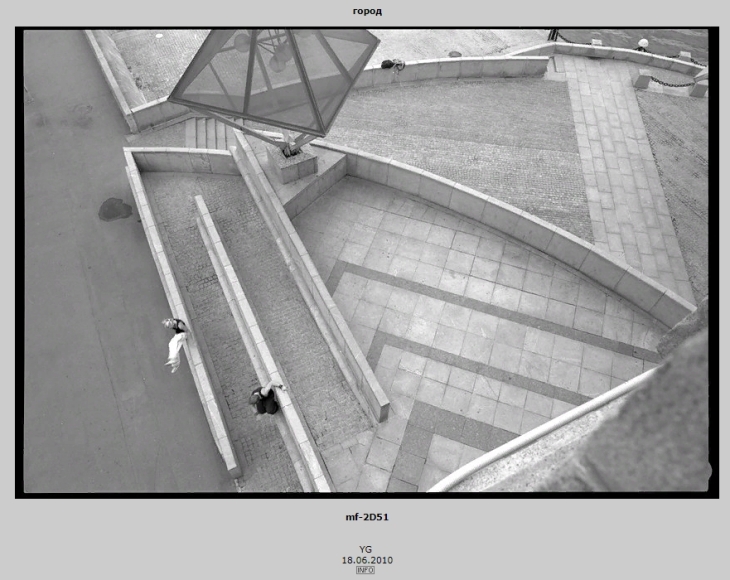
Наука, как она известна нам, сложилась только в Новое время. До этого ничего похожего не было. А Мир (как совокупность сущего) дан человеку до новоевропейского научного знания, как он дан младенцу, даже не знающему языка. И мир дан (лучше сказать, вовлекает человека) как присутствие. Следовательно, человек имеет некое априорное отношение к сущему. Далее, человек – просто потому, что он человек – имеет некое отношение Истине. Наука не просто «добывает» новое знание (так сказать, прибавляет щепотку нового к копилке человеческого опыта), она предполагает совершенно определенное отношение к сущему, – в философии называемое предметным противостоянием, – отношение, отличное от априорного. И это первоначальное априорное касательство человека и сущего «экранируется» научным знанием до такой степени, что многие вообще не понимают, что это такое. Однако первоначальное отношении присутствует и входит противоречие с наукой.
А само по себе «научное» отношение к сущему выводится из новоевропейской метафизики. В этом, никто уже не сомневается. Древние греки прекрасно ориентировались в мире, имели технику, придумали математику, но не на базе предметного противостояния, характеризующего современную науку. Это тоже выяснили, внимательно прочитав древнегреческих философов. Наука исторична: она возникла после Декарта и, может быть уйдет со временем, сменится другими отношения к сущему.
Философия // Заваренная железная дверь
Ландау-Лифшица можно читать без особых усилий. С сущности, обычная математика. Философия требует и требует от меня огромных размышлений, постоянного возврата к казалось бы пройденному. Проще изучить какую-нибудь теорему на 100 страниц. И что это доказывает? – только то, что Ландау-Лифшиц тривиален. А философия трудна и глубока.
Философов-женщин никогда не было, если не считать Розы Люксембург и Пиамы Гайденко. Причина – исключительная сложность предмета философии. Для женщин даже простое проникновение в суть вопросов, рассматриваемых философией, закрыто железной дверью и заварено. А поскольку российские ученые мужи почти женщины по интеллекту, то им тоже отказано, несмотря на ученые степени. Вот те, у кого мозги немецкие, – те, пожалуй, могут! К примеру, Вим Вендерс четко понимает различие цифра/пленка.

Философия (по крайней мере экзистенциальная) ищет выходы человека («присутствия», как они говорят) к бытию. А эти самые бытийные экзистенциалы историчны. Человек меняет свое отношение и к сущему, и к бытию. Мы уже не можем думать о сущем, как древние греки. Если бы человек всегда был неизменен, как протон: и 100 лет назад, и 1000, и 2000, то и философия, возможно, была бы одна и та же всегда. Но поскольку выходы к бытию все время меняются, философия может быть современной и не современной, неактуальной. Философия — мышление о человеке, то есть о таком сущем, которое свое бытие воспринимает именно как своё. Человек понимает себя из своей экзистенции, которая дана в модусе возможности: быть самим собой или не быть (и не только в этом).
Прав философ, который утверждал примерно следующее: «Научная истина есть род заблуждения, благодаря которому человечество утверждает себя. Мы выкраиваем себе удобный мир из существующего для того, чтобы просуществовать нам, разумному роду живых существ». Это по сути расшифровка рельефной и точной мысли Ницше: «Мы спроецировали условия нашего сохранения как предикаты сущего вообще». Лучше Ницше не скажешь, он всегда прав.
Инструмент // Сопротивление материала
Успех съемки определяется внутренней свободой фотографа и его внешней скованностью, зажатостью условиями и физической несвободой. Оба фактора важны.

«Снимать можно чем угодно – важно понимать возможности и ограничения техники. Снимает ведь фотограф…» — конечно, но что-то зовет фотографа снимать. Не последнюю роль в этом «зове» играет камера. Одни камеры в руке не лежат, не хочется ими снимать, а другие – стимулируют творчество. К последним отношу лейку м6, минольта динакс 9 и роллейфлекс. А лейкой м7, например, мне не хочется снимать. От цифровых камер вообще плохо на душе.
Архитекторы заметили, что здания, спроектированные в автокаде и проч. программах, отличаются от проектированных «вручную» чрезвычайной правильностью. Классические строения слегка неправильны, – сознательные или случайные ошибки, допуски и т.п, возникающие в процессе проектирования и строительства, как отклик на сопротивление материала. Это придает особую прелесть этим зданиям, проектировавшимся руками: «ручная работа». Ведь дело не в том, что в программе нельзя ввести «неправильность», – все можно. Стало ясно другое: не художник выбирает инструмент, а инструмент создает художника. Вот этого никак не могут понять мои оппоненту, наивно думающие, что вот есть художник, а вот – инструмент. Это не так, отношения художника и «резца» очень нетривиальны, из-за того, что сопротивление материала зависит от инструмента, да и сам автор им формируется.
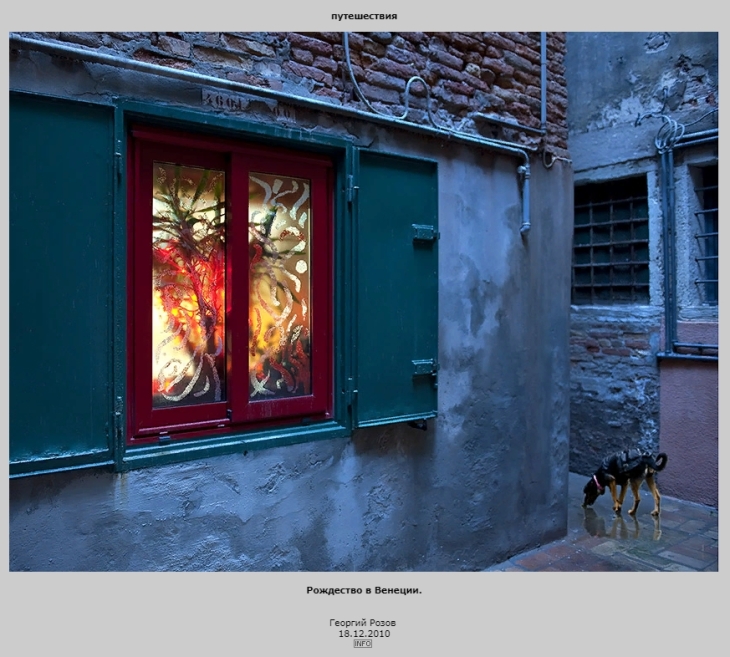
Цифровая фотография – это почти безграничная власть над изображением. Для фотографов, которые видят личный прогресс в творчестве как волевое возрастание власти над «продуктом» – электронными картинками, цифровые технологии – просто манна небесная. Но их творчество не встречает сопротивления материала: все возможно в цифре, – поэтому победит не воля, а реактивность. В пленочных технологиях не так: материал сопротивляется, воля автора встречает преграду, поэтому оттачивается и возрастает в борьбе.
Роман пишется человеком, продумывается человеком. И как происходит написание (у компьютера или за столом пером при свечах) существенно влияет на полет мысли. Роман – не текст, который рождается невесть где (пусть даже в голове писателя), а потом записывается писателем чем угодно. Писатель изначально включен в реальность и ограничен определенными инструментами, которые влияют на мышление и, соответственно, на текст.
В камере важно всё, от её веса, ощущения металла и кожи в руках, до звука кнопки спуска. Вот, скажем, жесткая кнопка спуска у «Техасской Лейки» третьего поколения: снимаешь, как топором рубишь. Так и ждешь: «вот рубану!». Для тех кто просто щелкает, это глупость, мол все равно как, главное результат. Да, результат, – это главное для зрителя, а для фотографа в момент съемки главное, каково его отношение к сущему вокруг, как он будет «рубить момент». Это аффектация отношения фотографа к сущему, как звук барабана, как удар плетки. Или мягкий, едва слышный спуск у Rolleiflex 2.8F или Leica M6: можно фиксировать время незаметно, не акцентируя свои чувства, не проясняя их для самого себя.
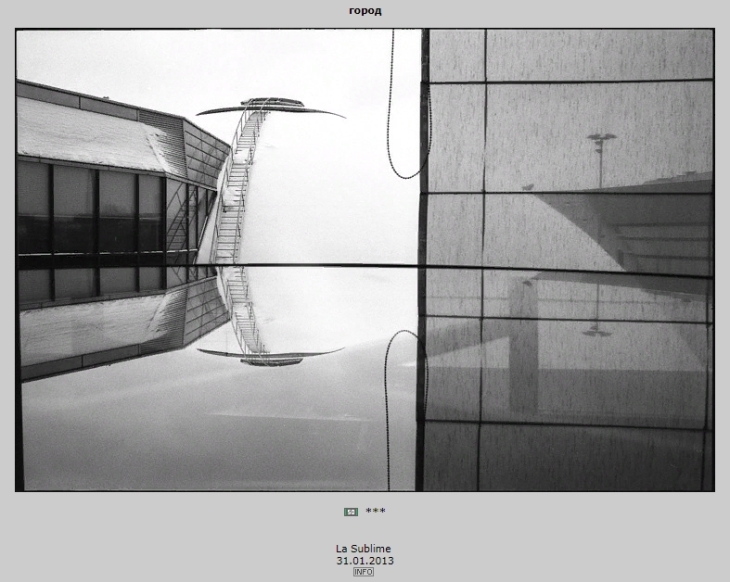
Художники хорошо знают, как важно прочувствовать пространство телесно шагами, тактильно руками, усталостью всего своего тела, существующего в том пространстве, которое нужно изобразить. У фотографа обычно нет возможности «прошагать» снимаемое пространство. Поэтому работа с камерой заменяет ему измерение пространства своим телом. Современные электронные камеры превращают фотографа в почти бесплотное существо: скадрируй и нажми. Все остальное сделает автоматика. Читая форум сони, поражаюсь, что люди уже не могут снимать без объективов с моторной фокусировкой. А Лейка, или Роллейфлекс, или Техасская Лейка предполагают довольно активную работу с камерами. Нужно одной рукой устанавливать диафрагму, другой крутить кольцо наводки на резкость, еще как-то переставлять выдержку в случае необходимости. Камеры Лейка нелегкие от 500 до 680 гр (титановые Лейки самые легкие, хромированные латунные – тяжелые). Не все могут справиться с этой техникой, но у кого это получается чувствует сцену руками. А услужливые автоматы, особенно цифровые камеры, снимают фотографии непрочувствованные телом, то есть отстраненно–туристические, как из окна автобуса.
Цифра // Мясорубки для текста
Если сводить суть фотографической технологии к получению «картинки», симулирующей реальность по принципу мимезиса, то нет принципиальной разницы между аналоговой и цифровой технологиями. Более того, цифровые технологии удобнее, часто дают изображение точнее по цвету и резкости. Как говорится, «цифра победила пленку» (с оговоркой «кроме БФ»). Это все верно, если задаваться единственной целью получить на плоскости оптический срез реальности, нечто подобное самой реальности. Если думать так утилитарно-примитивно, то цифра много лучше аналоговой фотографии.
Пленочная фотография – род палеонтологии, следы, отпечатки, кости. Театр призраков, покойнички в гостях. Следы времени… Это образует контекст аналоговой фотографии. Цифровая фотография включена в совершенно другой контекст: цифра – это определенный текст, то есть секвенция унифицированных символов, не связанных с «содержанием» текста. Ведь буквы и слова не имеют прямой связи с тем, что обозначают? – Так. Текст легко обрабатывается, модифицируется, уничтожается. И, это главное, – в тексте нет и не может быть никакого времени. В тексте нет просто нет такой вещи, как время, а в фотографии (аналоговой) время имеет голос. Последнее – ноэма фотографии, которую цифра утрачивает.
Если кратко: цифра – врата лжи. Широченные такие врата, отличная альтернатива «угольному ушку». Визуальная неотличимость цифрового снимка от пленочного как критерий фотографичности цифровых технологий напоминает тест Алана Тьюринга в «Может ли машина мыслить?». Известно, что способность мыслить по Тьюрингу – это способность притвориться человеком, отвечая на вопросы.
Классическая фотография – это идеальный компромисс между резкостью снимка и желанием человека видеть мелкие детали. То есть, традиционная фотография не такая уж резкая, что соответствует не желанию взрослого человека обращать внимание на детали. Цифровая фотография дает множество мелких деталей, совершенно лишних для глаза человека. Это, скорее, зрение ребенка, рассматривающего жучков и колоски у дороги.
Возможно, Вы не знаете что негативы фотографов совершенно не ценятся и не являются предметом собирательства. Почему? – потому что это полуфабрикаты, которые можно печатать сотнями способов, и только один из них выражает авторскую интенцию. Собирают авторские отпечатки, которые с Вашей точки зрения могут быть нереалистичны. Музыка – не нотная запись. Знаете, долгое время музыка существовала без записи. Кроме того, нотная запись не фиксирует всех нюансов исполнения. Музыка – живое исполнение.

Носитель не вечен, а сам файл, переписываемый и копируемый неизменен. Файл – это число: 10101001001010000011111000… Да, его можно утратить, но не в силу природы числа. А пленка смертна по природе. Это делает классическую фотографию близкой человеку. Почему Христос близок? – Потому что умер. Хоть и воскрес потом, но умер как простой человек. А неумирающий Бог не может быть близок человеку. Вот такой неумирающий бог – цифровая фотография. Еще раз сформулирую мысль. В цифровой записи человек сталкивается с сущностями – именно с числами, – которые бытийствуют совершенно иным способом, чем бытийствует человек и тварный мир. Это абсолютно иное бытие, неблизкое человеку. Число по своей природе исключено из смертного потока. А то, что носители цифровой записи стареют и портятся – это совершенно другая тема.
Это только в последние пару веков вещь стала простой носительницей утилитарной функции: ложка – чтобы есть, книга – чтобы читать, картинка – чтобы получить «эстетическое наслаждение». Но так было не всегда. Вещь в руках всегда ведет к тому, кто ее сделал. Вещь связывает того, кто ее использует с тем, кто ее сделал.
Фотография – не информация. Фотография – это вещь. Еще раз говорю (последний): фотография – это вещь, преодолевающая хаос реальности.
Эдуард Чередник: Дело не в критике, а в том, что цифре на полном основании отказывают в праве называться фотографией. Это совершенно другая технология, которая должна носить свое имя и не выдавать себя за то, чем она не является. Это моделирование фотографии, а не фотография. Так же как и реалистичная игрушка ФИФА 2010 является моделированием футбольного турнира, а не реальным турниром с живыми игроками.
Оцифровка – это всегда моделирование объекта на основании снятых с него замеров и сохранение результатов в массив. Вручную или механически ведется запись массива – вторично. Результат измерения – значение – не имеет ни физической, ни химической связи с объектом измерения. Записывать показания датчиков можно либо в файл, либо в карточки. И рисовать результат по данным картотеки можно хоть вручную, хоть аппаратно. В любом случае, к светописи этот процесс моделирования не имеет никакого отношения.
Raw файл с цифровой камеры не имеет индексальной ценности. Число не индекс. Вот я пересчитал пальцы руки: их 5. Смешно утверждать, что 5 – индекс кисти руки. На столе у меня книги, считаю: Шенберг, Хайдеггер, Бибихин, Делез, Сартр, – их пять в стопке. Что же получается «5» – это снова индекс? «Пять» – индекс руки и индекс стопки книг??? Ну, это было бы глупостью, как если бы один след в сланцевых породах был бы следом динозавра и следом моего ребенка одновременно. Сложность raw ничего не меняет: это число, полученное в результате измерений. Индексальность – это такая тонкая вещь.
Рав можно тиражировать сколько угодно: рав остается равом, куда бы его не переписывали. С индексами такое не проходит. Автограф поэта – индекс, он стоит дорого, ценится, собирается коллекционерами. Ксерокопия или фотокопия автографа уже не стоит ничего: это не индекс.
Пленочный фотограф работает руками с вещими: камерой, пленкой, реактивами, фотобумагой, светом, снова реактивами, ванночками, увеличителем и т.д. Ни на каком этапе он не прибегает к обработке информации, то есть, к обработке модифицируемого текста. Это работа садовника, если хотите, сапожника или пчеловода. Цифровой фотограф реально тоже работает руками с вещами: камерой, флешками, картридером, компьютером, принтером и т.д. Но для картинки реально необходим только текст (рав), а все остальное (с чем работает фотограф) – мясорубки для его переработки. А текст (число) – дискретный ментальный объект. Пленка недискретна. Если бы запомнить рав, а потом вбить в клеточки таблички, то и делу конец: смотрим картинку. С пленкой никогда не понятно, что в ней важно для изображения, а что лишнее. С какого размера ее частиц начинается «полезная информация»? Этого никто не знает.
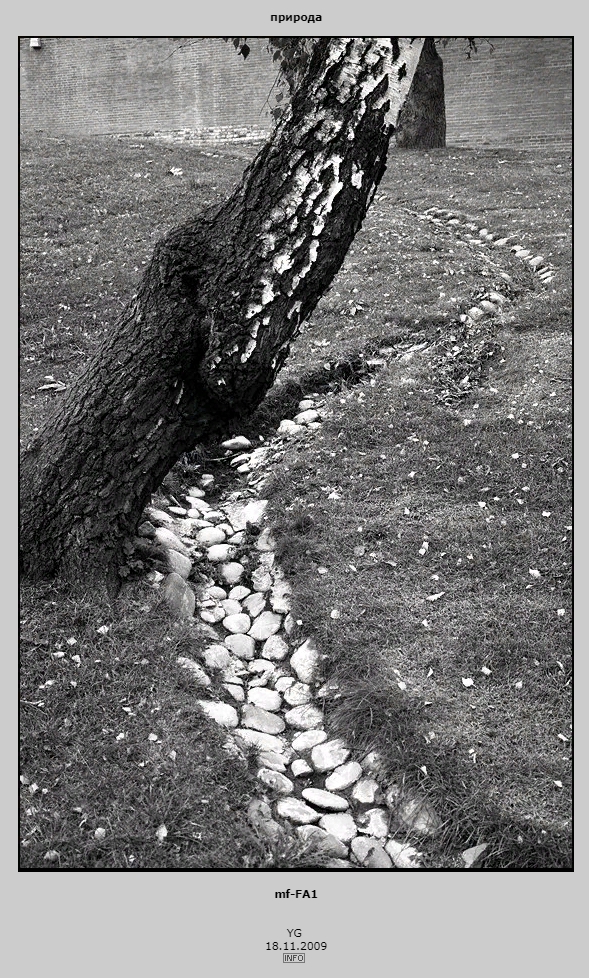
Это какой-то спор древних греков с древними египтянами. У египтян не было искусства, было только великое инженерное ремесло: как из 741566617004648534089 кубиков сложить пирамиду или статую. Причем, каждый из 741566617004648534089 египетских мастеров делал свою часть работы, а потом все части прилаживали друг ко другу. И все сходилось! Древних греков очень забавляло отсутствие у египтян искусства как несокровенности и явления истины. Как можно сделать статую из кусочков? Это только голый расчет и симуляция реальности из мелких деталей, а не явление истины в мир. В моем представлении цифра – это своего рода египетское болото. Полный конец алетейи. Чистая симуляция изображения.
Объявлять инструкцию по проявке алгоритмом хорошо на уроках информатики в 8 классе, но не в серьезном обсуждении. Инструкцию никогда нельзя выполнить точно. Просто потому, что в природе не бывает точно 20 градусов, 5 минут и 10 секунд переворачивания точно. А вот сложить 1010001010 и 1001111101010 можно абсолютно точно!
Сущность цифры, как я думаю, не в точности, а в свободе модификации изображения. Цифровая картинка – это то, что предлагается изменить как угодно дальше от реального прототипа, а вовсе то, что не поражает близостью к реальному.
Есть немало фотографов и кинематографистов, отдающих предпочтение пленке. Например, Вим Вендерс, Н. Михалков, Джон Секстон и другие, в том числе и ваш покорны слуга, – тоже не слишком простой парень. Например, Вим Вендерс сказал: «Цифровая фотография – совершенно другое дело. Я иногда думаю, правильно ли вообще называть новое поколение “фотографами”. То, что они делают, – это новая культура производства изображений».
Цифровая симуляция фотографии – это не-аналоговая фотография, то есть, не оптический отпечаток пленочного (пластиночного) негатива (или слайда). Такого определения придерживается великий теоретик фотографии В.Савчук. И я с ним полностью согласен.
Контрастность монитора порядка 1:800 или даже 1:1000. Контрастность бумаги самое большее 1:100 (такой не встречал), обычно 1:64 как максимум. Поэтому изображение на мониторе всегда смотрится иначе, чем отпечаток.
Постмодернизм // Соль, потерявшая силу
Постмодернизм – движение, для которого нет «главного объекта», а есть «главный метод». Постмодернизм – философская установка на равноценность самых разных стилей, художественных приемов и методов. Но не на отсутствие таковых.
Постмодернизм сместил акцент с содержания высказывания на его голую форму, сделав само высказывание бессильным и безвольным. Пустая игра с языком, но не со смыслами. Это касается и литературы, и живописи, и фотографии. Собственно, почему идея «перекличек» так прижилась на лайне? – это единственное, что вынесли читатели из осколков визуальной поэтики. Потому, что переклички – чистый формальный момент, так сказать включенный в постмодернистскую игру в бисер. То, что это основа некоторой поэтики, не понимается практически никем. Почему? – поэтика нацелена на смысл, а он невозможен в постмодерне.
С другой стороны, читая реплики под фотографиями, видна жажда по реальному высказыванию – осмысленному, сильному и властному. Тот, кто видет смысл фотографии помимо прямого, конечно, забавен, поскольку не замечает культурной ситуации, в которую попали все – «пост-пост-модернизма». Ситуацию, когда постмодернизм осточертел, а слово – как соль, потерявшая силу. Не работает ничего: ни произвольные фантазии над фотографиями в стили «Поэтики фотографии» (обхохотаться), ни разборы в стиле Лапинских, все-таки фундированные структурой фотографии (все равно смешные в наивной уверенности автора, что можно хоть что-то сказать).
Я неоднократно подчеркивал, что фотография может быть любой, лишь бы автор придерживался четко артикулированного «метода», которым руководствуется при отборе фотографий, и который этом смысле является для него «главным» на этапе формирования серии. Естественно, одновременно существуют самые разные направления и стили, и ни один из них не может претендовать на главенство. Именно это и означает, что мы находимся в ситуации постмодернизма. А вовсе не то, что есть произведения в которых все свалено в кашу и авторы которых, не ведают, что творят.

В модерне каждое новое произведение утверждается на могиле старого. Старое сдается в музей как исторический артефакт, а новое ненадолго занимает место старого. Новизна – абсолютная ценность для авангарда. Для постмодерна характерен относительный плюрализм: и то хорошо, и это хорошо, и еще что-то тоже хорошо, пусть цветут все цветы, лишь бы не было войны: давайте жить дружно!
А «новое» для постмодерна это старое, преподнесенное на другой тарелочке и под другим соусом. Причем, съесть предлагается и само блюдо и тарелочку. Но и постмодерн уходит. Новизна перестает быть ценностью. Заметна усталость от цветастых тарелочек, коробочек, ленточек, которые объявляются новыми идеями. Да нет там никаких новых идей! Новые идеи раз в сто лет появляются, а не каждый месяц. Думаю, грядет «время фундаментальности»: только фундаментальные ценности останутся как ценности, а новизна как таковая перестанет вдохновлять творчество.
Концептуализм // Кактус в наперстке
Концептуальная фотография, как известно, «выражает» некую идею. Таковы, например, работы Чема Мадоза. Причем, идея концептуального произведения должна быть очевидной зрителю и подавлять репрезентируемую реальность. Таким образом, в концептуальной фотографии реальность – только инструмент экспликации и реализации идеи, но самостоятельного («заинтересованного») интереса для зрителя не представляет.

Мадоз может объявлять себя кем угодно, равно как и его критики. Сюрреализм – это то, что сказано о направлении в манифесте Бретона, а не то, что о сюрреализме думают какие-то критики. По формальным причинам работы Мадоза – не сюр, а концепт.
Яков Друскин в статье, посвященной А.Введенскому писал о бессмысленном в произведениях этого писателя: «Бессмыслица – абсолютная реальность, Это Логос, ставший плотью, Сам этот личный Логос алогичен, так же как и Его вочеловечение. Абсурд, бессмыслица – абсолютная реальность и так же как Благая весть – не от мира сего. Вещи Введенского – не от мира сего. Божественное безумие, посрамившее человеческую мудрость». Фотография, кстати, очень способствует потере мирской премудрости: она выявляет в мире «безумие», корни которого явно не от мира сего. Жан Бодрийяр: «Сила изображения может быть только в том случае восстановлена, если попытаться освободить изображение от реальности».
Концептуализм воспринимает мир как разумный, как воплощение определенных идей. Эти идеи концептуализм и демонстрирует: «кактус в наперстке» (Мадоз) – своего рода эмблема. Это рассудочное «дневное» искусство. Напротив, сюрреалисты выступали за свободное неконтролируемое и автоматическое поведение художника, за “реализацию” ночных фантомов. Именно поэтому фотография так идеально вписалась в это направление. Фотограф-наблюдатель – только посредник между реальностью и произведением.
Концептуализм схематичен, в этом его существенная особенность, – произведение на 100% исчерпано идеей. Таков Мадоз. На работе рассказал о фотографии «кактус в наперстке». Работа всем очень понравилось, хотя ее никто не видел (это и необязательно), причем никто не спросил: какой наперсток, какой кактус и т.д. реализация вторична и неинтересна. Такие фотографии легко пересказать: все значимые элементы уместились в двух словах – «кактус в наперстке».
В концептуальной фотографии реальность выполняет простую функцию «передачи» идеи. После того, как идея стала понятной зрителю, воспринимается просто как материал, служащий выражением этой идеи. Т.е. фотография исчерпана, реальность отходит на второй план.
Фотохудожники // Научный подход
Ученые недавно открыли, что фотохудожников на самом деле нет.
Художественный образ // Аналогизирующая материя
Художник не творит «Образ», он творит вещь (не касаюсь музыки, танца, сценического искусства и т.п.), которая вызывает некоторый художественный образ у зрителя. Без зрителя нет восприятия, нет и образа. Насколько однозначен этот образ? Все ли зрители реконструируют один и тот же образ? Совпадает ли этот образ с замыслом художника? Довольно ясно, что следует дать отрицательный ответы на все подобные вопросы. Вообще, «художественный образ» трудно отделить от своего материального носителя. Это какая-то философская абстракция. «ХО» можно выразить вербально? Если – да, – то какое же это должно быть убогое художество, которое можно пересказать словами, разлить по пробиркам рассудка.
«Вряд ли наиболее талантливые авторы особо задумываются об изобразительных средствах создания образа – это как правило люди с врожденным чувством гармонии и композиции, образ создается у них интуитивно» ― и вот такую чушь приходится читать почти регулярно. Более всего поражает, откуда начинающие авторы так много знают о творческих методах «особо талантливых» авторов, а также о врожденном чувстве «гармонии и композиции». Наверное, приятно тешить себя иллюзией, что разбираешься в фотографии от момента рождения, что чувство гармонии унаследовал от матери, а композиционный талант – от отца.
Произведение состоит из преднамеренных и непреднамеренных элементов. Первые складываются зрителем в худ. единство («образ»), вторые – непреднамеренные – противостоят этому единству и свидетельствуют о том, что перед зрителем реальная вещь (Ян Мукаржовский).
У фотографии есть особенность. Прошлое присутствует («здесь-сейчас») в фотографии как свой собственный образ. Именно этот образ есть реальность прошлого, так сказать, явление призрака. Если мы будем смотреть на какую-нибудь старую фотографию с тыльной стороны («фотографЪ Рысь, БугурусланЪ»), то прошлое, как след, может быть, присутствует, как оно присутствует в любой старой вещи. Но присутствует не как образ. Прошлое как призрак — это специфика лицевой стороны фотографии.
В любом случае разглядывание фотографии – тип сознания, поскольку фотография – это то, что создает образ. Если воспринимать фотографию как вещь (а не как образ), то она есть простой лист бумаги с пятнами. Наверное, это единственный случай, когда фото воспринимается перцептивно. Во всех остальных случаях фото – аналогизирующая материя, которую та или иная интенция зрителя превращает в образ. Причем, все расхождения мнений о фотографии, все споры связаны ро снимках с тем, что зрители не отдают себе отчета в типе своей интенциональности.
По определению образ есть некоторый акт, нацеленный на отсутствующий или несуществующий в телесном виде объект через посредство некоего физического или психического содержания, которое дано в качестве аналогического репрезентанта.
Язык // Когда рухнет старый мир
Мартин Хайдеггер как-то сказал, что язык – дом бытия. Это верно, но требует уточнения. Подлинная фотография каждый раз убеждает нас в том, что бытие в языке под домашним арестом.
«Могу попросить Вас объяснить мне, что такое “визуальное мышление”?» ― это когда слова рассыпаются от прикосновения мысли как перезрелые грибы под ногой лесника, но мысль летит как ветер в пустом лесу.
Я вообще не уверен, что фотография – «просто картинка». Это лапинщина какая-то, протухшая паскудная семиотика. Любопытно, что вот эта пошлое «мне неважно как получена картинка, главное какая», стало особенно популярно с приходом цифровой фотографии. Фотография редуцируется до картинки, картинка – до образа, образ сворачивается в идею, а идея запихивается в прокрустово ложе слов. Такая жуткая вербализация визуального, превращение в текст.
Человеческое восприятие мира связано с называнием его частей. Это, так сказать, адамическая функция (Адам в раю давал имена зверям, которых приводил к нему Бог). Так и восприятие фотографии прочно сцеплено с функцией языка. Задача фотографии – освободить зрение от оков слова. Должно быть одно чистое зрение без моторики понятийного мышления. Тогда старый мир рухнет.
Некоторые авторы «помогают» зрителю, подписывая карточку небольшим текстом. Это приводит к тому, что зритель просто не видит изображенного мира, он его мыслит. Зрение умирает, мы не видим вещи так, как они есть. Это ложный подход к фотографии, ибо настоящая фотография – это средство восстановления зрения, чистый и свободный от бытовых штампов взгляд на мир, освобождающий зрителя от ассоциативного ряда вещей. Поэтому слово и изображение – не друзья, а враги. Лучшая фотография та, перед которой зритель молчит.
Эдуард Чередник: Думаю, что в художественной фотографии название допустимо до тех пор, пока {семантическое поле названия снимка} не вступает в какие-либо отношения с визуальной семантикой самого кадра, не нарушает (дополняет, перераспределяет и т.д.) сложившуюся иерархию внутрикадровых взаимосвязей.
Как только название преступает грань дозволенного и позволяет себе “вмешаться в кадр” происходит уничтожение внутренней логики произведения и образование новых, крайне сильных и упорядоченных названию связей не имеющих ничего общего с изображением, как таковым.
Возможно, кому-то из зрителей это поможет разобраться в том, что изображено на снимке, но самому снимку уже ничто не поможет – название уже безнадежно перераспределило связи каким-то одним способом, убило множественность прочтений. А там где есть единственность (=суженность) прочтения, там не может быть художественности.
Самый верный способ уберечься от того, чтобы название не вступало в какие-либо семантические отношения со снимком – это не давать ни каких названий. Ведь даже неосторожная нумерация может вступить с какие-то отношения со снимком, (скажем, числа 13, 21, 666 и 7-40 др.) и привести к образованию новых семантических взаимоотношений не подтвержденных визуальным кодом снимка.
Удивительно, насколько живучи наивные представления, что комментарии автора к своей работе имеет решающее значение. Вот, автор назвал: «неурожай» и большая половина зрителей принялись обсуждать, как трудно жить бабушке. Собственно, в чем «неурожай»? В том, что в кадре показано ведро картошки? В том, что один гнилой клубень отложен в сторону? «Что зрителю скажут, то он и увидит на картинке» – это, кстати, основной принцип современной информационной сферы.
Выдумывать названия карточек – самая яркая черта фотолюбительства. Снял какую-нибудь чепуху, – придумал хлесткое название, – и зрители кайфуют. Но к фотографии это не имеет ни какого отношения. Здесь название работы как бы обосновывает весьма сомнительное отношение изображения к теме конкурса.
Текстов, под которые можно подвести фотографию столько же, сколько прямых на плоскости, проходящих через точку – то есть, бесконечно много. Без вторичного изобразительного языка эти сюжеты ничего не стоят.
Художественное произведение вызывает такие тонкие чувства, которым и названия в языке нет, которые в житейских ситуациях не возникают. Потому что художественное произведение формирует специфический художественный объект, не существующий в реальности, но доступный нашим чувствам и разуму. Это расширение действительности.
М.Хайдеггер различал говорение на языке от использования языка. Использование – построение фразы (текста) по типу готовых ассоциативных блоков. Говорение – это мышление словами, дезавтоматизация речи, путь к настоящему мышлению. Например, поэзия – это говорение на языке. Шаблонность мышления не позволяет дойти до смысла слова, до его исконного смысла. Шаблонность – игра словами, блоками слов. Поэзия – игра слов. Нечто подобное наблюдаем в визуальном искусстве фотографии. В мире цивилизации предметы включены в бытовые ассоциативные цепочки, которые мешают проникнуть к исходному смыслу вещей. В быту вещи функциональны, мы их не видим, а только используем. Поэтому фотография, диссоциирующая предметный ряд, психически сильно действует на зрителя, «выключает» его из обыденной жизни. Предполагаю, что это и приводит к катарсису. Настоящая фотография аналогична поэзии, она – «игра предметов», а не «игра предметами».
Повторю тривиальную мысль: интерпретация фотографии, понимаемая как перевод «её визуального сообщения» на естественный язык,– путь ошибочный и тупиковый. Да и что такое «визуальный месседж»? Есть опасность неправильного понимания этих слов. Месседж как передаваемая информация, целиком принадлежит наличному бытию и не может быть поэзией. Меня же интересует поэзия.
Эдуард Чередник: Совершенно согласен с мнением, что в фотографии не нужно ничего интерпретировать. По крайней мере, если под интерпретацией понимать попытку перекодировать изображение в текст, изложенный на естественном языке.
Естественный язык является сильным загрубляющим фильтром, который предохраняет человека от обилия деталей и структур внешнего мира. Семантический “смысл” изображения отфильтровывается именно на этом уровне.
Единственной теоретической возможностью близко передать семантический “смысл” изображения на языке близкому к естественному является широкое привлечение в “высказывание” семиотических средств этого естественного языка. Например, перекодировка визуального “смысла” схожими средствами поэтического языка, его семантикой и структурой.
Фотография, если она поэтична,– это поэтичная вещь в каком-то изначальном и более глубинном смысле, чем поэтичность словесного искусства. Вообще, поэзия – «разговор с богами» (М.Хайдеггер), полагание сущего в бытие. Вот задача фотографа – заметить сущее в бытии, дать ему раскрыться. Не каждое «остановленное мгновение» приоткрывает сущее: сущее прячется, скрывается от глаз. Фотография – способ назвать сущее как сущее, минуя естественный язык. Поэтому визуальные перифразы словесных метафор, которыми в кино увлекался Сергей Эйзенштейн («Октябрь»), мне представляются ложной дорожкой (по крайней мере, для фотографии). Сущее, впервые получая свое «имя» в фотографии и благодаря структуре этой фотографии, отметающей прямой «месседж», получает бытие, то есть становится известным как сущее. Настоящий Месседж – это что-то, подслушанное у богов, и полагаемое в сущее.
Я думаю, художественная фотография не развилась ни до уровня свободного стиха, ни до уровня прозы. И верлибр, и белый стих, и проза – художественные направления литературы. А любое художество связано с жесткими структурными ограничениями. Если ограничений совершенно нет, то получается текст, – нехудожественная проза. Так вот, фотография без структуры – это «текст», а не проза или свободный стих. Не буду развивать эту тему, замечу только, что структура фотографии не исчерпывается тем, что не слишком удачно называется словом «перекличка».
«Формальная знаковая система – всего лишь коммуникационный инструмент, смысл его в его практической нужде» ― Вы безусловно правы, но видимо, не подозреваете, что искусство – особый вид коммуникации, функционирующий по типу автокоммуникации (когда человек или общество посылает сообщение самому себе и это сообщение не несет никакой новой информации). Искусство и востребовано как автокоммуникация: например, фотография, заинтересовавшая зрителя, рассматривается им снова и снова, хотя новой информации повторные просмотры не приносят.
Прошлое скрывается, уходит в сокрытость. Фотография – уникальным образом держит просвет открытым. Я бы не сказал, что только умозрительно. Но это требует размышления, потому что здесь мы сталкиваемся с главным. Еще раз скажу: фотография интересна не тем, что говорит, а тем, что сказать не может, а только показывает. Говорить нужно словами, – это вообще не задача фотографии.
Задача // Борьба за фотографию
Фотограф в момент съемки не видит реальность, вообще увидеть реальность очень трудно, это собственно, задача фотографа, с которой мало кто справляется. Фотограф в видоискателе камеры видит визуальные штампы, и борьба за фотографию начинается с преодоления этих штампов. Впрочем, можно конечно отдаться этим штампам, клонировать и тиражировать их, тогда фотография будет попсой.
Я думаю, что у фотографии есть очень важная задача: дезавтоматизация зрения и диссоциация вещей (по аналогии с хайдеггеровской «диссоциацией мышления»). Обычно, восприятие фотографий моторно и автоматично: вначале называются изображенные предметы, затем к ним применяются возможные (не противоречащие изображению) связи, потом строится история, объединяющая всё вместе. Сюжет фотографии реконструирован. Об изображении можно забыть, оно заменено мыслью.
Все мои фотографии о том, что мир неестественен. То есть, фотография показывает мир не так, как мы привыкли думать. Картинки (точнее сказать, мои картинки) не есть манифестации смыслов, а суть зазоры или пустоты между реальностью и осмыслением реальности. Моя задача не выразить какой-то смысл, что в принципе уже невозможно, а вернуть зрению функцию зрения: смотреть, и видеть, и быть в центре открывающейся реальности. Всё.
Мне не интересна декоративная, интеллектуальная и прикладная фотография, – «для души», «для интерьера» или «для понимания». На мой взгляд, фотография ценна тем, что восстанавливает свой собственный мир, – причем, мир, отличный от запечатленного на снимке фрагмента действительности. Отличие заключается в том, что действительность «скреплялась» по законам бытового тяготения вещей друг к другу, а воссоздаваемый фотографией мир цементируется сюрреалистическими связями, возникающими только в плоскости кадра. Например, в реальности подтек воды на тротуаре никак не связан с проводами на стене. А на фото, – пожалуйста, – они в одной упряжке. Для фото важно именно отличие того, что было, от того, что воссоздается. Живопись, например, тоже строит свой мир, но реальность, послужившая основой для него, полностью разрушена в произведении и часто вообще не известна зрителю. А в фотографии «бывшее» сохраняется, но с разрушенными связями.
Картина вначале рождается в сердце художника, а затем он движениями своих рук, ног, тела и зоркостью своих глаз, переносит то, что уже есть в его сердце, на холст или бумагу. Возникает картина – вещь, которая открывает для других зрителей доступ к тому, что вначале было только в сердце художника. Фотограф работает иначе (причем, не важно, стрит-фотограф или постановочный фотограф). Фотограф пребывает в потоке времени, то есть потоке забот, которые сводят время к ничтожным моментам. В этих моментах жить нельзя, они исчезают едва начавшись. Но вот в какой-то миг заботы отступают и фотограф оказывается в сгустке времени в просвете открытости бытия. Такое время уже не имеет продолжительности, в нем можно жить, с ним можно слиться. Что-то зовет фотографа запечатлеть это состояние. Что именно – никто не знает.
Затем фотограф печатает фотографию или сканирует негатив, слайд, смотрит рав. Что должно произойти, чтобы кадр состоялся как фотография? Отвечаю: фотограф должен родиться как зритель, – вот что необходимо! Фотограф должен родиться как первый зритель своего снимка, должен понять и объяснить себе, почему это не «случайный момент», а сгусток времени. И если это перевоплощение фотографа в зрителя произойдет, то фотографию можно показывать другим, в надежде, что они тоже будут зрителями, достойными фотографии. Увы, как часто эти надежды тщетны! Там не менее, всегда есть один зритель: это сам фотограф, конечно, если он достоин своего снимка.
Задача фотографа – разрушить бытовые связи предметов, подсмотреть тайную жизнь вещей, показать человека, не умещающегося в этом пространстве и в этом времени.
Отбор // Худшая черта авторов
Можно думать во время съемки, можно – не думать. Важен результат. Непременно нужно думать во время отбора.
Фотограф – не тот, кто перманентно выставляет пачки фоток, снятых в обеденный перерыв, а тот, кто удаляет плохое, среднее и хорошее, – оставляя только выдающееся. Кстати, зритель не будет смотреть галереи, в которых больше пары сотен работ. Когда я захожу на страницы авторов, умеющих тысячи снимков, я просто закрываю окно сафари. «До свидания!», — говорю,— «учитесь отбирать, это и есть призвание фотографа».
Снимать можно как угодно. Главное – иметь критерии отбора. В привлекательности простых советов «как снимать шедевры» – секрет популярности мастер–классов. Но ни один фотограф не расскажет о своих принципах отбора. На это табу.
Отбор – вот что определяет индивидуальность фотографа. В плане понимания важности этого обстоятельства примечателен отзыв А.А.Слюсарева о фотографиях Ю.Рыбчинского, опубликованный в недавно изданном альбоме последнего: «… наши фотографические ориентиры весьма различны. Рыбчинскому всегда было гораздо важнее понять, “что” он снимает, а не “как”. Здесь смысловая составляющая всегда превалировала над формальной: по его словам, было “важно нутро”». Возможно, со стороны казалось, что Юрий Рыбчинский снимает «что»: яркие эмоциональные сценки, запоминающиеся сюжеты, что-то необычное… Но экспозиция в МДФ, да и этот убогий альбомчик, показали, что Рыбчинский – мастер, виртуозно владеющий визуальным языком фотографии, чего не скажешь об авторе приведенных выше строк, всю жизнь снимавшем «как». Следовательно, можно снимать «нутром», а отбирать визуально ценное. А вот воспринимать фотографии только «нутром» никому не советую.
Вы умеете ловить момент, быстро реагируете на ситуацию, аккуратно складываете событие в рамки кадра, но фотография — это еще и сомнение в том, что событие было таким, как вы его видели. Вот этого у Вас пока нет. Поэтому фотографии «обычные».
О большинстве твоих картинок я про себя заметил, что, окажись на твоем месте, тоже стал бы снимать такие сценки. Не потому, что событие интересно, а потому что есть визуальная изюминка. Однако, изюминками визуальный интерес исчерпывается: совершенных и законченных работ не заметил. В основном осмысленные этюды.
Чтобы превзойти самого себя, нужно отбирать те фотографии, которые снимались вообще неосознанно или ради одного, а на отпечатке получилось что-то другое. То есть, жизнь оказалась сложнее увиденного и умнее и фотографа. Если фотограф так работает с отснятым материалом, тогда у фотографа будет рост. А если фотограф доволен своей техничностью, опирается только на неё, – конец.
«Осмелюсь предположить, он снял бы эту сцену, если бы даже на здании на ЗП не было белых полосок, ни вертикальных, ни горизонтальных, а были бы кружочки или треугольнички» ― мало ли, кто что снимает! Важно, другое: зачем показывает, почему фотограф отобрал этот кадр. Или Вы хотите сказать, что автор показал бы фотографию в случае другого фона? – А вот этого Вы знать не можете, да и никто знать не может.
Насчет любви к фотографиям и «нравится/не нравится». Покойный академик Михаил Леонович Гаспаров любил приводить чьи-то слова: «искусствовед должен любить изучаемые картины не более, чем гинеколог своих пациенток». Дословно не помню, примерно так.
Бывают ошибки двух родов. Ошибка первого рода: отвергнуть фотографию, когда она хорошая; ошибка второго рода: принять фотографию, когда она плохая. И то и другое ужасно, но второе хуже некуда. Чтобы избежать ошибок следует использовать симметричные критерии Беллмана–Гинзбурга и Овчиннникова–Пездрюкова с доверительным коэффициентом 5%.
Помню, на одном форуме был опрос, сколько хороших кадров получается из отснятого. Я ответил: 1 кадр из 400, т.е. примерно, 1 с 10 пленок. Сердобольные форумчане, огорошенные моим признанием, стали мне бескорыстно советовать думать перед тем, как нажимать на кнопку и, вообще, экономить пленку, ибо у них при такой стратегии получается 2/3 хороших снимков с пленки. Я даже посмотрел их работы… С тех пор я люблю советы членофф всяких виртуальных клубов.
Пересмотрев около 400 своих фотографий, ранее выставленных в и-нете, я теперь могу отобрать не более 20 сколько-нибудь достойных показа. Это при том, что те 400 – «по одной с пленки». В принципе, нормально. М.Парр говорил, что у него получается 1 снимок из 500. И еще, сотня абсолютно бездарных работ, которые я тут выставлял в 2001–2004 гг. твердо обеспечивала мне позицию среди первых 50 в рейтинге лайна.
Вчера на выставке Роберта Франка узнал, что он в Америке отснял 20000 (555 пленок по 36) кадров, а для альбома «Америка» отобрал из них 83 фотографии. У меня выход чуть больше: 100 с 500 пленок. Значит, я не строг Плохо.
Любить свои фотографии как детей – худшая черта авторов – любителей фотоизображений. В муках можно родить 10, ну 20 детей. Остальное – преизбыток.
Беспомощность // Замусоренность смыслами
Фотографии давно уже перестали воздействовать эмоционально. Фотографий стало слишком много в мире и их реальная сила иссякла. Если не считать мгновенных поверхностных аффектов, возникающих у зрителей, которым на самом деле всё глубоко безразлично, – поскольку они живут виртуально, – то можно сказать, что фотография – это эмоциональная tabula rasa, на которой каждый пишет своими деланными чувствами, что хочет. Вот чтобы ощущать себя не совсем роботами, я немного людьми, зрители позволяют себе выдавить каплю эмоций на шаблонные картинки. Но это не настоящие чувства, которые меняют человека.
Всё больше убеждаюсь в том, что никаких эмоций зрители вообще не испытывают. Сами разговоры об эмоциональности фотографии – лишнее свидетельство об отсутствии эмоционального восприятия. О еде больше всего говорят во время голода, о бабах – мужики в колонии, об эмоциях – сентиментальные зрители, потому что сентиментальность – это только мечта об эмоциях.
Вообще, современно искусство менее всего действует на эмоциональную сферу человека. Если что-то бьёт по эмоциям, то это, скорее всего не искусство, по крайней мере, не современное. Современное искусство может провоцировать, колоть и больно колоть, но без сопливых эмоций. Современное искусство – то, о котором возможен теоретический дискурс, то, о котором размышляют интеллектуалы. Остальное – «семейный альбом».
Искусство каждый раз указывает на уникальное место человека в мире: на то, что вещи становятся вещами именно благодаря человеку. Этого уникального положения человека относительно бытия лишены животные, возможно испытывающие что-то вроде эмоций, – и в том сходные с человеком. Поэтому разговоры об эмоциональности, которые тут ведутся, – имеют, знаете, потребительский характер, как вкусовщина. Фотография смакуется на предмет эмоциональной начинки: кислая, сладкая, горькая. «Нам бы послаще!». Мне хорошо видно со стороны, что для таких зрителей искусство как искусство остается герметично закупоренным. Их взгляды наивны и опыт восприятия искусства примитивен.
Никаких мыслей, кроме какой-нибудь дежурной банальности, фотография выражать не может. А банальность = попсовости. Я уже приводил высказывание Мартынова: «Многие [авторы] до сих пор не поняли и не прочувствовали этого краха акта высказывания. Они продолжают искренно и самозабвенно множить свои высказывания, не осознавая трагикомической бессмысленности своих действий и не будучи в состоянии согласиться с тем, что в наши дни вера в реальную смыслообразующую силу представления и действенность высказывания может иметь место только в сфере массовой культуры. Вернее будет сказать, что в этой сфере имеет место не столько вера в реальную действенность высказывания, сколько полное безразличие и нечувственность к этой проблеме. Массовая культура работает с высказыванием так, как будто не произошло никакого краха акта высказывания…»
Вот, например, пример беспомощности фотографии что-то сказать. Подпись: Women shout their dissent from a Tehran rooftop on 24 June, following Iran’s disputed presidential election. The result had been a victory for President Mahmoud Ahmadinejad over opposition candidate Mir Hossein Mousavi, but there were allegations of vote–rigging. In the ensuing weeks, violent demonstrations took place in the streets. At night, people shouted from the roofs, an echo of protests that took place during the 1979 Islamic Revolution. То есть, фотография сама по себе ничего не может сказать. Можно было дать любую другую подпись под снимком: «у женщины умер ребенок», «муж ночью не удовлетворил», «обкурилась травки», «пьяная дура», «потеряла ключ от двери»… – все подходит.

Второй пример: «На развод» Гены Гуляева. Снова, фотография ничего не выражает, кроме того, что на ней есть фактически. «За дедушкиным наследством», «установление отцовства», «учитель-педофил понесет суровое наказание»… – что угодно. Фотография не способна ничего сказать или выразить,– вообще, это не ее задача. Единственная задача фотографии – показать мир так, как его не видит глаз. Фотография может быть для зрителя открытием и очищением мира, потому что мир замусорен смыслами.

Фотография давно не имеет власти высказывания, поскольку перешла в раздел «entertainment». Особенно в интернете, где фото – пустое развлечение, способ погудеть, скрасить будни клерка. Поэтому совершенно не важно, интересен кому-то автор или нет. В лучшем случае фотография воспринимается зрителем как материал для археологии автора. Это как раз случай «автор кому-то интересен», но это не ситуация высказывания. Фотография умерла (как высказывание) с массовым распространением цветного ТВ. Об этом сказали многие выдающиеся фотографы, интервью которых собраны в известной книге «Диалоги о фотографии».
«Фотография как высказывание» в настоящее время фактически невозможна, потому как высказывание – проявление силы и воли, а фотография давно выпала из императивного ряда, растворившись в бесконечном море «изображений» чего-либо. Каждый может сделать фотографию, как каждый может сказать. Но высказывание не всякий делает, а тот, чье слово воспринимается как властное. Конечно, фотограф может думать, что он что-то «говорит» своими фотографиями, а зритель может принимать свои субъективные ассоциации за «голос» фотографии. Но это диалог на расстоянии немого и слепого. Власть пока есть у ТВ, то есть, событие создается медиа и императивное повеление направляется из медиа. А фотография не может конкурировать с ТВ в силу своей вторичности и общедоступности. Вот когда каждый будет способен вести телеканал, власть ТВ разрушится. Покажите мне хоть одну фотографию-высказывание, если я не прав.
Эдуард Чередник: У меня с Сергеем Максимишиным состоялся интересный разговор по поводу этой рекомендации:
– Сергей, а как же быть с искусством фотографа? Если отвлечься от сюжета и социалки на структуру кадра, то разве есть хоть один кадр интересный с фотографической точки зрения? Для тебя лично? Поясни, если не влом.
– Тот случай, когда с высокой горы плевать на искусство фотографа. Искусство фотографа не цель, а средство.
– Любопытно, спасибо. Мне казалось, что выбор того самого единственного двумерного прямоугольничка из временного ряда в качестве наилучшего средства достижения цели происходит на основе каких-то принципов.
– Я оценил сарказм, но, простите, мне не очень интересна эта полемика.
Т.е. при съемке жутких и отвратительных вещей нужно стремиться и снимать жутко и отвратительно? Чтобы простому зрителю было жутко и отвратительно от происходящего, а любителям фотографии – от самих фотографий? Мне любопытно, почему фотожурналисты так легко отказываются от своих же собственных наработок за последние сто лет в пользу съемки, когда они сами не могут объяснить, чем отличаются соседние кадры. По-моему, если соседние кадры не отличаются, то фотосъемке нужно предпочитать видеосъемку. Причем, это ведь не кто-то там говорит, а сам «великий и ужасный» Максимишин, у которого с головой – дай бог каждому.
«С появлением Интернета количество опубликованных репортажных снимков возросло на порядки! Т.е. мы наблюдаем своего рода репортажный бум» ― этим карточкам уготована участь плодовитых мух дрозофил: никто не в состоянии отличить одну от другой. И потом, обилие фотографий – такой же слабый аргумент жизненности современной фотожурналистики, как 100 романов Дарьи Донцовой – не свидетельство расцвета русской литературы. Сколько романов написал Достоевский? А сколько альбомов издал Юджин Смит? Наоборот, «репортажный бум» – это закат фотографии: дрозофилы тщетно плодятся перед заморозками, надеясь переждать студеную пору в потомстве. Слова из учебника биологии – «самки и самцы дрозофилы в течение 6…8 ч после вылупления неспособны к оплодотворению…»,– точно применимы к современной фотографической ситуации: самки и самцы людей, купившие цифровой фотоаппарат, через 6 часов способны снимать фоторепортажи. Да, есть чем гордиться.
«Сейчас можно только констатировать, что резко возросло число хороших (по любым критериям)…» ― это означает несостоятельность критериев. Когда рутина объявляется «хорошей продукцией», это свидетельствует о расфокусировке оценок. Нет настоящих критериев, а старые критерии стали ложны.
За последнее десятилетие в обществе изменилось отношение к фотографии. И это главное. Фотография стала простым и пустым развлечением, а рефлексия по поводу фотографии представляется глупостью (что естественно, если фотография – просто досуг). Цифра сыграла не последнюю роль. Есть люди, для которых фото – заработок, есть люди для которых фото – развлечение, а тех, для кого это что-то важное, – единицы. Пять лет назад расстановка была другой.
Сейчас фотография – только развлечение, пустое развлечение. От фото не ждут ничего серьезного. Наверное, не случайно организаторы портфолио-ревю в Москве твердили, что фотография должна изменить мир. Больной вопрос. Тезис несколько комичен, поскольку фотография ничего не значит и не на что не влияет.
Сравнение с ролью поэзии в 60-е несколько наивно. Тогда поэты стадионы собирали. А сейчас фотолюбители задницу не оторвут, чтобы на фотовыставку сходить.
Поезд ушел, искусство выражения умерло лет 30-35 назад. Дело не в том, что нечто, подлежащее сказу, нельзя выразить, – можно, конечно. Но «высказывание» потеряло силу. Искусство как выражение – соль, потерявшая силу, несоленая соль. Смешно и горько читать про каких-то медуз в мертвых точках поля кадра, выражающих отношение автора к самому себе. «И так далее», как писал Хлебников. Жаль, что это не понимают.
Реальность // Нечеловеческое мычание
Живописи как искусства больше нет, – это практически общее мнение искусствоведов. Но есть и будут художники на Арбате, в подземных переходах, авторы продающие какие-то холсты у Дома художника. Но это ничего не меняет: живопись вытеснена в маргинальную область. То же самое в музыке: музыка как авторское выражение чувств умирает. Причина: невозможность высказывания как такового. Высказывать в искусстве можно только новое: говорить старое, то есть, известное, не есть искусство. А теперь посмотри призеров WPP – все, что там высказывается фотографиями заранее известно зрителю. Журналистика как искусство умерла, хотя живет как индустрия повторения банальных смыслов.
Живописи сказать нечего, это мертвый язык как латынь. Так и с репортажной фотографией может произойти: какие-то фотографы-журналисты еще будут продолжать работать, но того резонанса, который наблюдался в 20 веке не будет уже никогда. Покупают современное искусство, но это не живопись в привычном значении слова.
Что есть «событие» формирует телевидение, а не газета или журнал. Телевидение и дает картинку того, что называет событием. Фотографу не остается никакого места в этой структуре производства информации, кроме места подсобного рабочего. Конечно, можно идти против течения, как Энтони Сво в серии «Потерянный рай» (в США, вроде не удалось показать эту серию, она демонстрировалась в Москве). Но по-моему, это тоже никому не нужно, поскольку зритель просто не верит, что фотография может что-то сказать. Официальные американские медиа твердят одно, Сво «говорит» другое, но и первое и второе – просто картинки, виртуальный мир, в котором нет места реальности как человеческой боли, как того места, где человек есть, где он призван Богом. Если у фотографии и есть будущее (что не очевидно), то я думаю, оно связано только с одним: фотография повернет интерес человека от виртуального к реальному.
«Почему иногда будущему отдают приоритет в оценке настоящего? Неужели в будущем люди будут нас сегодняшних лучше нас понимать?» ― хороший вопрос. В будущем люди будут воспринимать по-другому. Не лучше и не хуже, – по другому. Этому учит история искусства. Отношение к искусству меняется, меняется и восприятие. Но что его меняет? – Теории, теории искусства в первую очередь. Будущему не дается приоритет в оценке искусства, будущее его просто присваивает себе. Кроме того, не все же пишут, сочиняют или фотографируют для современника. Почитайте Мандельштама «О поэзии»: адресат стихотворения – это человек из будущего. Поэт ничего не может сказать своему современнику.
Такова реальность: фотография как фотография больше не имеет самостоятельной ценности. Конечно, по инерции еще выходят фотоальбомы, галереи экспонируют известных авторов, но это все пережитки другой эпохи, закончившейся лет 20–30 назад. Теперь автор – никто, а те люди, которые раньше считались второстепенными, так сказать, «обслугой» – галерейщики, критики, кураторы – стали всем заправлять. И произведение – ничто, если оно не репрезентировано должным образом. И фотография – только объект для дальнейшего манипулирования, включения в какой-нибудь «проект».
«Фотограф снимает как он видит. Это задача куратора – отобрать нескольких авторов и из них сделать аккорд» — эта схема, отражающая реалии 60–80-хх годов прошлого века, ныне устарела. Сейчас огромное перепроизводство фотографий, кураторы на этом зарабатывают, устраивая всякие портфолио-ревю для любителей. А заниматься серьезным осмыслением того, что делается в фотографии могут единицы, а реально этим никто не занимается, поскольку не приносит дохода. Сейчас реализуется другая схема: задача куратора создать себе имя, используя фотографов как материал. Не куратор обслуживает фотографов, а фотографы как пчелы, вьющиеся вокруг цветка, опыляют куратора.
«Всё, что в большинстве своём мы видим сейчас из того, что нам пытаются представить как какую-то “новую” фотографию или авторов “новой волны” – обыкновенная мейнстримная жвачка. Про такую не вспомнят не то что завтра – её забудут сейчас же, через пять минут после просмотра… » — в общем, это так. Искусство развивается в плоскости поиска бинарных оппозиций. А предложить новые оппозиции очень трудно, возможно, придется ждать век, пока что-то новое будет осознано и войдет в художественную практику. Проще искать оппозиции на стороне, создавая синтетические вещи, вроде последней выставки Ашкенази и Нистратова в Манеже (портрет+голос). Кстати, искусство практически не зависит от технических новаций. Это показывает провал 3D фильмов: «новинка на час». А почему провалились? – нет новых оппозиций. Контрольный вопрос: что является фундаментальной оппозицией для кинематографа, определившей его как искусство?
Именно бинарные оппозиции порождают художественное произведение. Мягкое «п» (пел) и твердое «п» (поэт) не конфликтуют, а находятся в бинарной оппозиции. Трехмерность пространства фотографии и двумерность плоскости картинки – оппозиция, но не конфликт. Портрет человека и аудиозапись его голоса, воспроизводимая рядом, находятся в оппозиции, но не обязательно в конфликте.
Еще 7 лет и все комментарии сведутся к «+» и «–» или нечеловеческому мычанию. Я думаю, случилось другое: произошла диссоциация визуального и рассудочного. Фотография стала вроде конфетки, о которой не думаешь, пока ешь. Это касается фотографии любого типа.
Я думаю, что в будущем появится новая идея памяти. Нынешняя так старомодна. Тот факт, например, что я могу посмотреть на негативы фотографий, которые сделал шестьдесят лет назад (где я вижу все свои ошибки, все кадры в расфокусе, все хорошие кадры), устарел. А через шестьдесят лет люди уже не смогут разглядывать фотографии, которые они сделали детьми сейчас. И многие фотографы даже не видят того, что сняли. Ни у кого нет времени их рассматривать, хоть загружай их на Facebook, хоть нет. Акт фотографирования теперь важнее, чем сами картинки. Смотреть их, хранить и создавать свою личную память больше не модно. У будущего человечества не будет памяти. Не будет прошлого. Только будущее.
Эдуард Чередник: Продукция Магнума, в которой сплелись современное искусство и традиционная журналистика, стала успешным и модным товаром. По неумолимым законам рынка на этот более успешный товар начали ориентироваться другие и через несколько десятилетий этот стиль стал мейнстримом среди фоторепортеров.
С тех пор искусство рассыпалось на миллион осколков, Брессон умер и только Магнум продолжает гнать чернуху по старым лекалам. Возможно, до тех пор пока какой-нибудь другой репортер с художественным образованием и дружбой с эстаблишментом не вдохнет новую жизнь в фотожурналистику. Впрочем, я не питаю иллюзий и думаю что тенденция объединения различных медиа в единый Visual Art сохранится в будущем, стирая грани между фотографией, графикой, иллюстрацией и т.д.
Вначале в стране закончился период фотографий. Это произошло года 2–3 назад. Из лесов пришли слабые авторы, которые задали тон. Потом закончился период осмысления фотографий, потому что пришли болотные дуры и стали болтать и трещать без умолку. Потом закончилось время обсуждения, потому что пришли проселочные дуры с плохими фотографиями и сказали: мы знаем всё. А мужики с топорами сказали: это хорошие гламурные дуры, потому что они разрешают снимать как угодно, будем за ними прятаться и щелкать. А потом пришел ослик и сказал: «это мысль». Но его выпихнули, потому что он упирался. Так всё кончилось и ничего не началось.
Приложения
Олег Виденин // Этнография
В снимках Олега Виденина форма не важна, она двадцатипяти-степенный фактор. В каждой его работе, практически повторяющейся по форме, очень простой, прямолинейной, «в лоб», фигуры по центру, чистый фас и т. д. (все, чего обычно другие пытаются избежать) – «потрясающе живой взгляд» – Верно! Но неважность «формы» фотографии означает отсутствие фотографичности. Автор не ставит художественных задач. В чем же заслуга автора? – Он фиксирует простые человеческие эмоции. Умеет. Не каждому это удается, но так снимают многие. Знаете, это не штучные художественные работы, как у выдающегося Бахарева; все это – простая этнография. Да ещё и слащавая (в данном случае). Котята.

Итак, достоинство работ Олега Видениа – «живой взгляд» моделей. Но ведь каждому, элементарно знакомому с фотоискусством, ясно, что фотографию не сделаешь на живом взгляде, нежных объятиях или деревенских пейзажах, размытых среднеформатной оптикой. Любые профессиональные артисты сыграют лучше. Этим воспользовался Робер Дуано. Мастера избегают отрывать передней план от заднего малой ГРИП. Мастера работают над фоном, – взять хотя бы, Николая Бахарева. И главное: фотография – изобразительное искусство, а не сценическое. Должно быть что-то относящееся к способу «выражения», к изобразительному решению, что делает фотографию Фотографией.

«Очень похоже на то, что Олег снимает только хороших людей, у которых души светлые» ― Ольга, для Вас и многих других зрителей фоном восприятия работы Олега является окружающая жизнь. Но фоном художественных произведений является не реальность, не социум, а само искусство: то, что было сделано в портретной фотографии раньше, – до Виденина. От того, что точка отсчета Вами и другими выбрана ложно, такие, деликатно выражаясь… несложные соображения… и такая ярость к любому «инакомыслию» (это не о Вас).
Александр Лапин // Пережевывание видимого
Имя собственное «Лапин» стало именем нарицательным. Это – слава. Как бы к нему лично не относились, он – точка отсчета. Как малым детям говорят: «а кто кашу доедать будет, – Пушкин?», так у фотографов: «а что Лапин сказал бы на эту…». И каждый сам отвечает, как если бы «лапин» было шапкой, которую каждый может примерить сам на себя.
А.Лапин выделяет следующие специфические черты фотографии: документальность, избыточность, монокулярное видение, прозрачность, одномоментность и случайность. Этот список можно продолжить, но главное уже перечислено. Настоящая фотографичность связана с некоторой «непрозрачностью» окна, сквозь которое видим мир. Тогда говорит фотография, а не вещи. Непрозрачное стекло заметно, как заметна структура фотографии. И непрозрачность заметна только тому, кто хочет её заметить, так и структура не всеми учитывается. «Непрозрачность стекла» взаимодействует с тем, что находится за ним. Так и изобразительный язык фотографии изменяет облик того, что изображено.
Лапин часто писал, разбирая фотографии: «что значат эти связи? – ничего». Поэтому не принимает их в расчет. Или писал: «какой смысл в том, что колесо на голове ребенка? – Никакого». То есть, для преподавателя Лапина смысл фотографии идет впереди самой фотографии. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот: смыл проясняется постепенно или много позже изображения. Изображение – тайна. А у Лапина тайны нет, все осмысленно, причем заранее, из культурного багажа зрителя извлекается шаблон понимания, который примеривается к новой фотографии.
«Поэтика фотографии» – известная книга и многие разборы фотографий из книги Лапина «Фотография как…» призваны опровергнуть ничем не мотивированные интерпретации тех же снимков из «Поэтики». Беда в том, что разборы Лапина – это тоже словесные интерпретации визуального поля, проговаривание и пережевывание видимого. Он не ушел от литературщины и даже не смог правильно поставить вопросы. Разница с «Поэтикой» в том, что Лапин попытался фундировать свои интерпретации визуальной структурой фотографии. Это шаг вперед по сравнению с «Поэтикой», но на этом пути никакой объективности достигнуто не было, да и не могло быть достигнуто. Субъективность интерпретаций Лапина просто скрылась за произвольностью вычленения визуальных связей, произвольностью выстраивания иерархии выбранных связей, субъективностью последующего вербального толкования.
Уж если стремиться к некоторой объективности объяснения фотографий, наверное, нужно было исследовать коллективные формы восприятия социума. Но этого не было сделано. Да и возможно ли это?.. Лапину невдомек, что для одного зрителя связи могут быть слабыми и ничего не значащими, а для другого – весомыми. Обратите внимание, что преподаватель Лапин как простой дилетант с улицы находится в плену понятия «хорошей» фотографии: «…что это доказывает? Что снимок хорош?..». И стоило писать книгу, чтобы вернуться к субъективности деления на хорошее и плохое? Жалкий результат.
Цвет дает более сильные связи между предметами, чем геометрический формы. Форма – это абстракция. Я не знаю, что сказал бы Лапин о цвете, но разбирая живописные полотна, он переводит их в чб, и обсуждает такие репродукции. Это чисто педагогический прием, – разборы Лапина не имеют прямого отношения к тем живописным полотнам, которые он обсуждает, во всяком случае, последние нуждаются в «цветокоррекции».
Фотоприемы // Мир мгновенно коллапсирует
Низкая точка съемки (в живописи это называется «высокий горизонт») делает изображенную сцену важной и репрезентативной, а её персонажей значительными и по-философски глубокими. Высокий горизонт характерен для средневековой иконописи и живописи итальянского Возрождения. А вот для Северного Возрождения более свойственен низкий горизонт (высокая точка зрения), вспомните, к примеру, Брейгеля.
Нерезкий фон – это «женщина вообще», «человек вообще», «прибой вообще» и т.д. А ближний план – это фотографический взгляд на предметы, видение в конкретном: «эта лопатка», «этот песок». Причем, противопоставление абстрактного конкретному достигается вполне фотографическим средством: резким тональным переходом.

Сама постановка вопроса «объект по центру кадра – плохо… или хорошо?» совершенно дилетантская. Кому хорошо? Кому плохо? – Извините, чушь. «А ударение в середине слова – это хорошо или плохо?» Почему-то поэты подобными дурацкими вопросами не заморачиваются.
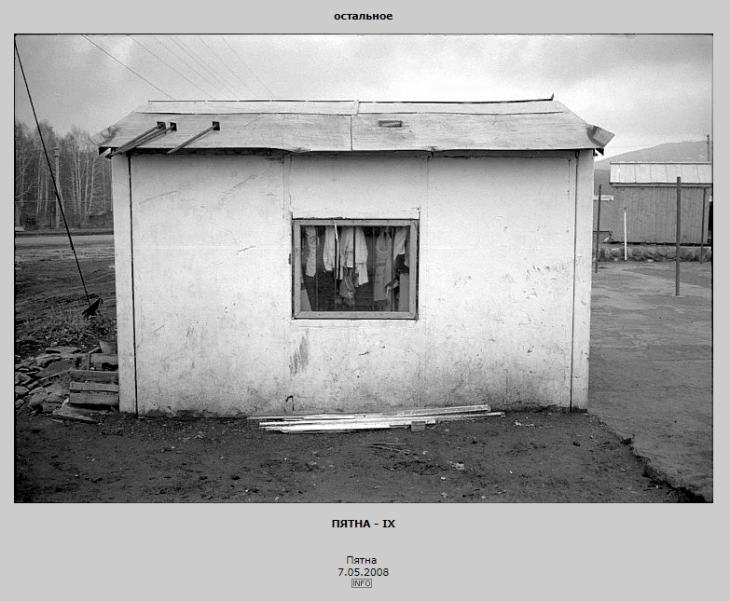
Раньше говорили «смаз» – движение камеры в руках фотографа, «шевеленка» – движение объекта. Смазать может фотограф, шевелиться – внешний объект. Логично и укоренено в языке. Потом пришли фотографы, глухие к русскому языку, и стали использовать слова безответственно.

Боке ценят дилетанты-фотолюбители, думая, что красивое размытие оптики что-то добавляет к их бездарным снимкам. Половина тем на сайтах фототехники – какое красивое боке у оптики минольты, лейки, роллейфлекса и т.д. Серьезных фотографов это как-то мало интересует: как правило, они снимают на закрытых диафрагмах.

Снимать кашу на ЗП каждый дурак может, и сказать, что эта каша для антуража – тоже каждый дурак может. Для этого вообще не нужно понимать фотографию. А сделать портрет, где все связано и все работает,– очень трудно. И это удел больших мастеров. А фотолюбитель, действительно, «снимает эмоции», то есть, по сути делает халтурную фотоработу, которую с радостью принимают зрители-профаны, реагирующие на кисок и миленьких девушек.
В жанровом и репортажном фотоизображении должны быть сюжетно немотивированные детали или какие-то «ляпы», – иначе, фотография превращается в схему, а это уже другое направление.
«Если ваши фотографии плохи, это означает, что вы находились недостаточно близко к месту событий. (Роберт Капа)». ― А.Гурский мог бы сказать: «Если ваши фотографии плохи, это означает, что вы находились слишком близко к месту событий». И был бы прав. Кстати, учтите, Капа подорвался на мине, пытаясь подойти ближе. Ближе-то он подошел, но кадр оказался не хорош. Я бы призадумался.

Съемка природы требует от фотографа исключительного чувства цвета, пространства и геометрии кадра. Это редкие качества. Пейзаж довольно формален, схематичен, геометричен. Здесь же на лайне представлены фотографы, снимающие природу по массовым парадигмам, не задумывающиеся об индивидуальном творчестве. Это в основном «чувственные» клише. Пустое по сути, тривиальщина. Для сравнения соотношение пейзаж/жанр. Анри Картье-Брессон снимал пейзажи, у меня есть этот его альбом. В нем довольно интересные и нетривиальные работы. Но это только один альбом, — других нет вообще,— а его стрит и жанр занимают десяток альбомов на моей полке.

Окружающие человека предметы и природа имеют огромное эмоциональное воздействие на него, но это воздействие сильно зависит от того, есть ли кто-то рядом (или «рядом в снимке»), и от его психического состояния. Как только в поле кадра попадает человеческое лицо, оно становится центром зрительского интереса, причем, одновременно значение остальных компонентов снимка переосмысливается и начинает соизмеряться с изображенным человеком. Это аксиома: в первую очередь зрителю интересен человек, его эмоции, настроение, желания, – духовный мир, скрытый под оболочкой кожи. «Уберите лицо, и мир мгновенно коллапсирует» (Елена Петровская, «Глазные забавы». – Сказано ей об офортах Гойи, но как мне кажется, имеет самое общее значение).

Лицо на фотографии неподвижно, статично – оно подобно маске. Хорошо известно, что лицо-маска получает свое значение от обнаженного тела, оно как бы изживает в себе все лицевое и служит для растворения лица в том теле, которое его продолжает. «Лицо становится отростком, органом тела. Можно выразить происходящее и иначе – тело приобретает “черты лица”, лицо становится телом, между ними происходит обмен». Еще Фрейд заметил, что, например, соски на груди всегда выступают в качестве потенциальных «глаз» тела. Не получается ли так, что обнаженное тело в портрете – не более, чем род одежды, «ризы кожаны», так же скрывающие «внутреннее содержание» человека, как и любая другая одежда или макияж?

Смерть ассоциируется с крестом только в секуляризованном атеистическом сознании человека, бесконечно далекого от Церкви. На Крестопоклонную в церкви поют: «Крест – хранитель всея вселенныя, крест – красота церкве, крест – царей держава, крест – верных утверждение, крест – ангелов слава и демонов язва». Крест – символ надежды, воскресения, жертвенного пути и победы над смертью, но никак не символ смерти. Это символ радости и жизни.

Для определения нижнего поля паспарту я пользуюсь методом, описанным Микулиным в «25 уроках». Если перевести его метод в формулы, то получится следующее. Пусть паспарту имеет размеры A x B, а отпечаток – X x Y. Вычисляем размеры полей так, как если бы хотели расположить фото строго по центру: N=(A–X)/2, M=(B–Y)/2. Затем вычисляет сдвиг по формуле D=NxM/A (A – нижняя сторона картона). Нижнее поле нужно увеличить на D, а верхнее, естественно, уменьшить на эту же величину. Метод имеет ясный геометрический смысл, который приведен у Микулина.
Ю.М. Лотман // Сообщение самому себе
Текст: отрывки из статьи «О двух моделях коммуникации в системе культуры».
Механизм передачи информации в канале «Я–Я» можно описать следующим образом: вводится некоторое сообщение на естественном языке, затем вводится некоторый добавочный код, представляющий собой чисто формальную организацию, определенным образом построенную в синтагматическом отношении и одновременно или полностью освобожденную от семантических значений, или стремящуюся к такому освобождению. Между первоначальным сообщением и вторичным кодом возникает напряжение, под влиянием которого появляется тенденция истолковывать семантические элементы текста как включенные в дополнительную синтагматическую конструкцию и получающие от взаимной соотнесенности новые – релятивные – значения.
Рост синтагматических связей внутри сообщения приглушает первичные семантические связи, и текст на определенном уровне восприятия может вести себя как сложно построенное асемантическое сообщение.
Но синтагматически высокоорганизованные асемантические тексты имеют тенденцию становиться организаторами наших ассоциаций. Им приписываются ассоциативные значения. Так, всматриваясь в узор обоев или слушая непрограммную музыку, мы приписываем элементам этих текстов определенные значения. Чем более подчеркнута синтагматическая организация, тем ассоциативнее и свободнее становятся семантические связи. Поэтому текст в канале «Я–Я» имеет тенденцию обрастать индивидуальными значениями и получает функцию организатора беспорядочных ассоциаций, накапливающихся в сознании личности. Он перестраивает ту личность, которая включена в процесс автокоммуникации.
Таким образом, текст несет тройные значения: первичные общеязыковые, вторичные, возникающие за счет синтагматической переорганизации текста и со– и противопоставления первичных единиц, и третьей ступени – за счет втягивания в сообщение и организации по его конструктивным схемам внетекстовых ассоциаций разных уровней, от наиболее общих до предельно личных.
Итак, мы можем сделать вывод, что система человеческих коммуникаций может строиться двумя способами. В одном случае мы имеем дело с некоторой наперед заданной информацией, которая перемещается от одного человека к другому, и константным в пределах всего акта коммуникации кодом. В другом речь идет о возрастании информации, ее трансформации, переформулировке в других категориях, причем вводятся не новые сообщения, а новые коды, а принимающий и передающий совмещаются в одном лице. В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма широкий круг культурных функций – от необходимого человеку в определенных типах культуры ощущения своего отдельного бытия до самопознания и аутопсихотерапии.
Если читательнице N сообщают, что некая женщина по имени Анна Каренина в результате несчастливой любви бросилась под поезд и она, вместо того чтобы приобщить в своей памяти это сообщение к уже имеющимся, заключает: «Анна Каренина – это я» и пересматривает свое понимание себя, своих отношений с некоторыми людьми, а иногда и свое поведение, то очевидно, что текст романа она использует не как сообщение, однотипное всем другим, а в качестве некоторого кода в процессе общения с самой собой.
Повторы определенных строительных (архитектурных) элементов в интерьере храма заставляют воспринимать его структуру как нечто, не связанное с практическими строительными, техническими потребностями, а, скажем, как модель вселенной или человеческой личности. В той мере, в какой внутренность храма – код, а не текст, она воспринимается не эстетически (эстетически может восприниматься только текст, а не правила его построения), а религиозно, философски, богословски или каким–либо иным нехудожественным образом.
Показательно, что отрицательное отношение к тексту–штампу будет хорошим рабочим критерием общей ориентированности литературы на сообщение. Ориентированная на автокоммуникацию литература не только не будет чуждаться штампов, а проявит тяготение к превращению текстов в штампы и отождествлению «высокого», «хорошего» и «истинного» со «стабильным», «вечным» – то есть штампом.
Как бы ни имитировало литературное произведение текст газетного сообщения, оно сохраняет, например, такую типичную черту автокоммуникационных текстов, как многократность, повторность чтения. Перечитывать «Войну и мир» – занятие значительно более естественное, чем перечитывать исторические источники, использованные Толстым. Одновременно, как бы ни стремился словесный художественный текст – из соображений полемики или эксперимента — перестать быть сообщением, это невозможно, как убеждает нас весь опыт искусства.
Высокая моделирующая способность поэзии связана именно с превращением ее из сообщения в код. Поэтический текст как своеобразный маятник качается между системами «Я–ОН» и «Я–Я». Ритм возводится до уровня значений, значения складываются в ритмы.
Законы построения художественного текста в значительной мере суть законы построения культуры как целого. Это связано с тем, что сама культура может рассматриваться и как сумма сообщений, которыми обмениваются различные адресанты (каждый из них для адресата – «другой», «он»), и как одно сообщение, отправляемое коллективным «я» человечества самому себе. С этой точки зрения, культура человечества – колоссальный пример автокоммуникации.